Продолжаю тему "Литературная учеба".
Казалось бы, при громадной разнице в стиле стиха и прозы разве возможны колебания между стихотворным и прозаическим оформлением задуманного произведения? Неужто "Медный всадник" мог быть написан прозой и "Герой нашего времени" стихами? Конечно, нет, — но где установилась эта несомненность: в предварительном размышлении о форме выполнения, в единовременном зарождении формы и содержания или на одном из дальнейших этапов обработки? Мы имеем возможность указать ряд случаев, когда выполнение уже готового плана связывалось и для Гете, и для Шиллера с сомнениями Я размышлениями над предпочтительностью стиха или прозы для данной темы. Речь идет не о тех нередких у поэтов и указанных уже случаях, когда в лихорадочной работе над замыслом смысловая стихия стихотворного произведения — хотя бы экзальтированно-лирического — является поэту в прозе, и в прозе закрепляется в рассчете на будущее пересоздание. Здесь имеем в виду случаи, когда не первый замысел, а обработка большого продуманного произведения началась или продолжалась в связи с вопросом: стих или проза? Эти случаи и этот вопрос достойны внимания, прежде всего, как показатель глубокой значительности того, что в обиходе называется формой, и свидетельство о том, как с ее изменением меняется смысловая сторона произведения. Восхваляя только что прочитанную "Новеллу", Эккерман высказал в разговоре уверенность, что Гете работал здесь по очень определенному плану. "Это так, — отвечал Гете: - уж тридцать лет тому назад я собирался обработать этот сюжет, и с тех пор храню его в мысли. Чудно вышло у меня с этой работой. Тогда, вслед за "Германом и Доротеей" я предполагал сделать и из этого поэму в гексаметрах и даже составил для этой цели подробный план. А теперь, решив писать на этот сюжет, я не нашел старого плана; пришлось выработать новый, — и соответствующий измененной форме, в которую я теперь предположил облечь предмет. Но вот, Окончив работу, я вдруг отыскал тот старый план — и радуюсь, что он не попал в мои руки раньше, потому что он спутал бы меня. Все Действия и ход развития остались те же, но подробности вышли совсем другие. Все в целом было задумано для поэмы в гексаметрах и, стало быть, совсем не подходило бы для прозаического изображения".
Теория ясна: кто ищет формы, должен знать, что в зависимость т ее выбора ставит смысл своего произведения, — и это не мешало на практике весьма решительным колебаниям, а затем и переработкам вполне готовых эпизодов и целых произведений. Мы видим, задумав "Новеллу" в стихах, Гете — через тридцать лет — написал ее прозе. Но в стихах он ее не пробовал писать. Обычен другой путь: не стихи перерабатывались в прозу, а проза в стихи, и в этом отразились колебания в поэтике классиков. Ее развитие протекало борьбе между драматургией французского классицизма — драматургией отжившего феодализма — и драматургией "мещанской драмы". Приподнятость первой — так ощущалось и так формулировалось в теории — выражалась в условности ее стихотворного облачения, тогда как повседневная простота и правдивость второй находила выражение в ее безыскуственной прозе.
Теория требовала поправок, и очень существенных, — никто не скажет, что прозаический "Фиеско" правдивее стихотворного "Валленштейна"; но конкретная уверенность в этой многосторонней пригодности стиха пришла не сразу. Неотделимая от стиховой формы эллинская трагедия стояла как высочайший образец, но классики французской трагедии уже были объявлены "ложно-классиками", и проза завоевывала место в трагическом театре. Прозой пользовался в отдельных эпизодах Шекспир, прозу внедрял драматургический учитель поколения Лессинг, в прозе Гете написал "Геца", "Клавиго" и др., прозой перемежался первичный — и даже позднейший — "Фауст". Естественно, что первоначально в прозу отлилась и стремительно набросанная "Ифигения". Есть, однако, разница между старо-немецким сюжетом, взятым из подлинной политической и бытовой истории, как "Гец" или народной книжки, как "Фауст", и абстрактным эллинским мифом, уже драматизированным в трагедии Еврипида. Уже отвлеченная всеобщность речи действующих лиц свидетельствует об известной приподнятости языка в драме Гете. Что содержание и тон ее требовали не прозаического, а стихотворного стиля, явствует из того, что проза "Ифигении" есть во многих местах проза ритмическая, удобно поддающаяся рассечению на стопы и стихи. Лессинг от прозы "Минны" и "Эмилии Галотти" уже перешел к стиху "Натана Мудрого", вышедшего одновременно с переработанной "Ифигенией". Советы Виланда и чтение "Электры" Софокла были последним толчком.
Стих ощущался теперь как наиболее соответственная форма, и Гете, уже после шумного театрального успеха драмы, уже после двух прозаических версий, принялся за переработку прозы в пятистопный ямб. Дать при посредстве переводов надлежащее представление о том, в каком направлении и смысле изменилась от этого драма, тем труднее, что русский стихотворный перевод, в сущности, одинаково близок — или одинаково далек — как стихотворному, так и прозаическому немецкому тексту и, таким образом, невозможно даже сказать, с стихотворного подлинника сделан перевод или с прозаического. Перестраивая прозаическую речь в стихотворную, Гете менял как-будто немногое: здесь вычеркивал, там прибавлял словечко, здесь изменял порядок слов, там эпитет, — но в искусстве еле заметные оттенки часто играют решающую роль, и изменением незамеченных мелочей обусловливается глубокое изменение тона.
Если бы Гете в эти годы вернулся к "Фаусту", он, вероятно, уже тогда перевел бы в стихотворную форму прозаические сцены поэмы. Занявшись ею, он сразу почувствовал необходимость такой переработки. "Некоторые трагические сцены, написанные прозой, по реальности и силе совершенно невыносимы рядом с прочими, — писал он Шиллеру в 1798 г.: — Стараюсь теперь передать их в стихе, отчего идея просвечивает словно сквозь кисею, непосредственное же действие могучего материала приглушено". Результатом этой переработки была новая форма заключительной сцены в тюрьме — и мы видим здесь как стих, ни в какой степени не умалив, а скорее повысив "реальность и силу" сцены, гармонически слил ее страшную, грубую трагику с общим тоном пьесы.
2. Переписка поэтов в эти годы возвращения к "Фаусту" не раз отражает этот живой, практический их интерес к вопросам стиха. Поэтическая практика связывается с вопросами версификационной теории. На сообщение Гете, что он занят улучшением прозодии своих стихов Шиллер отвечает: "Отчетливость, размера имеет ту своеобразную особенность, что она является внешним выражением внутренней необходимости мысли, между тем как вольность, нарушение размера, наоборот, подчеркивает известный произвол". И, приступая к переложению прозаического Валленштейна в стихи, он писал: "Никогда до этой работы я не убеждался с такой очевидностью, как велика взаимная зависимость, связующая в поэзии содержание и форму, даже чисто внешнюю. С тех пор как я перерабатываю мой прозаический язык в поэтически-ритмический, я подсуден уже совершенно иному суду, чем раньше; даже многие мотивы, казавшиеся вполне уместными в прозаическом одеянии, оказываются непригодными для меня; они годились для повседневного обиходного рассудка, голосом которого, очевидно, является проза; стих же безусловно требует связи с воображением, и таким образом мне пришлось стать поэтичнее также во многих моих мотивах. По правде, следовало бы, собственно, все возвышающееся над заурядностью, задумывать, по крайней мере, в начале, в стихотворной форме, ибо пошлость никогда не выступает с такой очевидностью, как выраженная в связанной речи". Эстетским парадоксом звучала бы эта последняя мысль в других устах: для Шиллера она была откликом продуманного опыта: у него ведь были в прошлом колебания при обработке "Дон Карлоса", а в настоящем переработка "Валленштейна". Как всегда, художественные требования совпадали здесь с политическими. Положительная освободительная программа, широко и возвышенно развернутая в патетических речах героя, вождя, провозвестника, требовала убедительной формы, до которой не доросла проза Шиллера: в ее якобы реальные условности не мог еще с предельной, в данных условиях, правдивостью отлиться тот пафос, выразить который поручал своим молодым героям Шиллер. Действия Карла Моора говорят за него, но речи его риторичны до крикливости. Старик Миллер адекватен в правдивости своей простой речи, но Фердинанд также велеречив, как и Фиеско. Понемногу это начинал чувствовать ученик Руссо, до сих пор, в боязни разрыва с "природой", считавший стихотворную речь трагического героя отступлением от "естественности".
"Не могу себе простить, — писал теперь Шиллер, — что из упрямства, а, может быть, и из честолюбия я пытался блистать в противоположной сфере, что сковывал свою фантазию тисками буржуазного котурна, в то время, как "высокая трагедия" представляет столь благодарную почву, могу оказать, прямо созданную для меня..." Однако, он и "Валленштейна" начал было в прозе. Но вновь советы и пример большого специалиста вернули его на должный путь: статьи А. В. Шлегеля, беседы с ним и особенно его переводы Шекспира привели Шиллера к "исполнению последнего требования, предъявляемого к совершенной трагедии": он приступил к облечению прозаической сцены между Максом и Теклой в ямбические стихи я вскоре опять удивлялся, как мог начать свою драму в прозе. Переработанные сцены, — так сообщал он в письме, — явились ему в совершенно новом виде. Все характеры и положения, несмотря на их разнообразие, подчинила себе всеуравнивающая мощь ритма, и приподнятая выразительность сообщила возвышенный характер также мотивировке.
Эти переработки — показатель тех путей, которыми идет поэт в своих сомнениях. Иногда колебания сковывают его вдохновение, чаще, отдавшись прихоти творческого мгновения, он создает нечто, что удовлетворяет лишь в основе, но требует обработки, перестройки, требует новой работы. Основные переработки и двойные редакции Гете относятся к его большим произведениям. Однако и в лирике он многократно подвергал текст не только стилистической чеканке, но и более глубокой обработке, дающей в результате новый текст.
3. Проходя мимо версий и поправок, понятных лишь читающему в немецком подлиннике — а таких поправок громадное большинство,— отметим кой-что из тех случаев, когда поэтом руководили более внутренние, смысловые соображения, очень тонкие, конечно, как всегда бывает в чистой лирике, но все же очевидные. Знаменитая "Степная розочка", в основе имеющая народную песню, не только подвергалась неоднократной отделке, но, — если считать первоначальным безымянный текст в сборнике Гердера, — постепенно меняясь, решительно отходила от своего первоначального облика. В трех ее строфах с припевом рассказано, как мальчик, увидев в степи розу, захотел сорвать ее; роза пригрозила ему шипами, однако, это не спасло ее: она защищалась, но мальчик ее сорвал. В первичной версии все; не так: речь идет не о дикой розе, а о почке фруктового дерева; в ответ на желание мальчика сорвать ее, она пригрозила ему не уколом, а тем, что с ее гибелью он не получит и никаких плодов с дерева. Так и вышло. И стихотворение, достаточно напоминающее своей моралью басню, кончается прямым поучением: "Мальчик, рано не срывай надежду сладкого расцвета. Ибо, ах, увянет она скоро, и нигде ты не увидишь плодов твоего расцвета". Ничего этого нет в окончательной редакции, сжатой, выразительной, с ее образной многозначностью, допускающей любое конкретное осмысление текста, с ее бессодержательным, но полным чувства припевом: "Роза, розочка моя, розочка степная".
В ряде новых редакций мы отмечаем стремление поэта от взволнованной субъективности, отразившейся в первом наброске, перейти к объективному изображению. Нет возможности объяснять по-русски мелкие изменения, передвинувшие центр тяжести от личности поэта к более широкому ощущению всеобщего чувства и мысли, как, например, в переработках стихотворений "С разрисованной лентой", "К месяцу" и др.
То, что еле уловимо в обновленных текстах интимной лирики, становится более отчетливым в переработках больших произведений. И здесь, как мы это отчасти видели, Гете, первоначально отталкиваясь от более индивидуальных запросов, в дальнейшем переделывает свое произведение затем, чтобы, идя навстречу социальному тогда довольно грубому — "заказу", преодолеть первичную субъективность. Иногда этим возвышается его произведение, иногда принижается, но дело не в нашей оценке результатов работы, а в ее приемах и мотивах.
Драма о Геце, при всем тяготении Гете к историческому в широком смысле познанию, уже в начале не была для автора опытом изображения прошлого, но боевым откликом на современность. Мало было прославить старую германскую доблесть: автор чувствовал себя единомышленником бунтаря-Геца, нравственному и государственному разложению он противополагал твердость, мужество, свободолюбие поднявшегося крестьянина. Политическая тенденция наростала в работе над драмой. В первоначальном "Геце" более значительной фигурой выступала, как мы знаем, общая соблазнительница Адельгейда которую окончательная версия лишила части ее чародейственного обаяния. И не только в этом политическая тенденция выдвинута за счет любовных мотивов. Отчетливее, подобраннее сделан образ самого Геца. Он не приближен к историческому подлиннику.
Следуя в общем само-идеалиэации своего героя, предложенной Гецом в его автобиографии, Гете по прежнему не считался с тем, что исторический Гец был насильник, забияка и профессионал рыцарского грабительства. Взаимные подвохи и грызня мелких князей, бессилие императора, корысть поповства и купцов осталась, но ряд сцен, оскорбительных для чувства предполагаемых читателей, устранен в окончательной редакции. Жертвой этой морально-эстетической чистки пало только изображение свирепости крестьянской войны, сцена удушения и др., но и словесная размашистость первичной редакции ослаблена по тем же соображениям. Эта первичная редакция полна гипербол, впоследствии — как говорит Шерер — "доведенных до своего рода классического совершенства в "Разбойниках" Шиллера". Особенно гиперболичны числовые определения времени. "Хотя бы они сто лет на моих глазах истекали кровью, месть моя не утолилась бы", — говорит Мецлер об избиваемых феодалах. И дальше: "Бушуй ветер, развей в клочья их души и тысячу лет кружи их вокруг земли, и еще тысячу лет, пока не вспыхнет пламенем вселенная!" Вся эта риторика — быть может, и правдивая в устах вожака восставших крестьян, — вычеркнута в окончательной редакции.
Переработка "Вертера", произведенная через десять лет после появления романа, также есть выражение необходимости удовлетворить — законные или неосновательные— требования читателей. В романе были выведены живые люди, друзья автора, и они были огорчены своими изображениями. Сперва — пред лицом высших художественных соображений — их протест представлялся поэту мелким. "О неверующие, о маловерные,— писал он чете Кестнеров, недовольной тем, как они изображены в романе: — если бы вы могли почувствовать тысячную долю того, что "Вертер" дал тысячам сердец, вы не задумывались бы над расценкой вашей доли, в него вложенной". Все же и некоторая основательность недовольства Кестнеров и иные соображения побудили Гете уступить и приняться за переработку, которая представилась ему делом "деликатным и опасным".
Он обещает Кестнеру "так осветить Альберта, что не понять его существо сможет пламенный юноша (т. е. Вертер), но не читатель". Новая редакция "Вертера" заключает немногие, но существенные изменения. Прежде всего ослаблена сложность мотивов самоубийства, которую ставили в вину автору читатели столь значительные и столь различные, как Гердер и Наполеон. В первой редакции Вертер убивает себя не только потому, что любимая женщина не может быть его женою, но и потому, что он вообще не в силах жить в этом мире социального неравенства и гнета. "Он не забыл — говорилось здесь — о неприятности, жертвой которой сделался на посольской службе. Он редко вспоминал о ней, но и при самых отдаленных намеках чувствовалось, что он считает свою честь непоправимо оскорбленной". Это вычеркнуто в окончательной версии: здесь за записью Вертера в дневнике о том, что безнадежность любви приводит его к мысли о самоубийстве, следует сообщение рассказчика, что под влиянием этой безнадежности твердым и непреложным стало намерение героя покончить с собой. Итак, общественный мотив оскорбленного достоинства отодвинут в роковом решении на далекий план. Ряд письменных и устных признаний Вертера в новой редакции еще обостряет значение его всепоглощающей любви. Таким образом, окружающий мир потребовал от поэта, чтобы он за счет критического отношения его героя к быту и к миру усилил индивидуалистическую окраску его гибели, ослабив в его трагедии оттенок общественного обличения. Сюда же относится и введение в повесть эпизода с батраком-убийцей. И
Вертер, и батрак не могли вынести безнадежности своей любви, и оба вынуждены были насильственно покончить с этим мучительным состоянием. Но утонченный и благородный Вертер мог убить только себя, а "душевно грубый мужик" убил соперника: для Гете и, конечно, для его читателей здесь не одно различие индивидуальных натур, не разница морального уровня в пределах одного социального слоя. Это разница общественная, разница классовая.
Так новые оттенки, внесенные автором при обновлении романа, представляют собой уступку консервативности окружающего его общества, уступку традиционной морали, несмотря на протестующую основу Вертера. Кестнер с женой были милые обыватели и они были правы, жалуясь на то, что в результате романа Гете их личная жизнь выволочена на улицу и стала предметом пересудов. Но, признав правоту друзей и возвысив новыми черточками облик Лотты и в особенности характер ее мужа, Гете знал, и мы знаем, что эта их стыдливость все же подсказана условностями их быта и нравов, их мещанской безкрылостью.
4. Социальную окраску отмечают и в чисто стилистической правке нового "Вертера". В том, что тонкости выражения вообще заботили Гете, нет, конечно, ничего удивительного. Не из лирики, существо которой требует шлифовки языковых мелочей, — из больших произведений приведем пример заботы о мелочи чисто звуковой. Назвав свою автобиографию "Поэзией и правдой" своей жизни, Гете колебался, какое поставить первым из этой пары существительных. Дело было на этот раз не в своеобразном смысле, который вкладывал писатель в эти слова и на котором нам не приходится останавливаться, но в благозвучии того или иного порядка слов. Если сказать Wahrheit und Dichtung, и Гете иногда сам говорил так — то рядом окажется два U, а в Dichtung und Wahrheit некрасиво звучат рядом два и. В конце концов Гете предпочел последнее.
Количество таких поправок в "Вертере", свидетельствующее о работе Гете над прозаическим языком, очень велико и направление их очень разнообразно. Десятки страниц заняло бы перечисление изменений, внесенных при отделке в язык романа, в морфологические формы, в словесный состав и стилистику. Мы определили бы тенденцию этой отделки как борьбу со своим прошлым. Провинциал поездил по миру, зажиточный горожанин сделался придворным, мастер языка ощутил, что за пределами его франкфуртской речи есть язык общегерманский, литературный, утонченный. Все это отражается на новом тексте "Вертера". Устарелое уступает место современному: вместо verstund Гете говорит verstand, вместо gewest пишет gewesen. Областное заменяется литературным, и вместо прежнего франкфуртского Bub мы сплошь находим более общее Junge. Ярко отразилась в поправках также сложность отношения Гете к националистическому пуризму. Теоретически в прозе и в стихах Гете возражал против чистильщиков языка от иностранщины. Но он прошел в этом известный путь и сам настойчиво очищал язык своих произведений от иностранных элементов. Пересматривая "Вильгельма Мейстера" для полного собрания сочинений (1805), он, главным образом, сосредоточился на замене варваризмов немецкими словами, а в 1813 г. поручил соответственную работу по "Поэзии и правде" Римеру, которому писал: "Уполномачиваю вас заменять в рукописи иностранные слова немецкими... В этом вопросе я не своенравен и не легкомыслен". Начало этого "националистического" пересмотра языка мы находим именно во второй редакции "Вертера". Здесь сохранено еще множество иностранных слов — и почему бы им не сохраниться? Но не мало их заменено немецкими: Гете уже пишет не passirt, a geschehen, не Melancholie, a Schwermut, не Demission, a Entlassung и т. д.
Больше всего, однако, среди поправок бросается в глаза замена резких выражений более мягкими. Молодой человек, только что отошедший от студенческой размашистости, "буршикозности" в языке, молодой автор, стоявший в рядах неукротимых "гениев" школы "бури и натиска" был, естественно, склонен к гиперболе, решителен и простонародно-грубоват в выражении. Он протестовал против многого в моральном быту и в общественном строе: неужто он должен был заботиться о сдержанности своих обличений? Но признанный писатель, удостоенный дружбы герцога, возлюбленный утонченной и умеряющей Шарлотты Штейн, смягчает растрепанность выражений своего героя.
Во множестве случаев слово Kerl (человек, каналья, "субъект"), заменяется словом Mansch или Mann (человек), и штаны (Hose) заменяются брюками (Beinkleider). Тот, кто попросту обзывался "скупой собакой", теперь определяется как "торгаш, недостойный звания купца"; претенциозная пасторша называлась "болезненным животным", "мордой, изъявляющей притязания на ученость", теперь она только "болезненное создание" и притязательная "дурочка". И, наконец, если о князе раньше говорилось tolpelt (тычется в недоумении, от слова Tolpel — болван), то в новом тексте вежливо значится stolpert (натыкается).
5. Шиллер не любил переделок, — слишком много произвел он их под чужим давлением. Да и чисто художественная отделка, несмотря на множество вариантов и поправок в его лирике и драме, тяготила его, и он горько жаловался в письме к Кернеру: "Нет более неблагодарной работы, чем отделка стихотворений: невероятная затрата времени, к тому же теряемого понапрасну: ибо в большинстве случаев возвращаешься к тому, с чего начал. А первое настроение, в котором оно создалось, исчезло".
Однако, он перерабатывал много; в стихотворении "Мои цветы" после переделки сохранились неприкосновенными лишь немногие стихи, и то, что было выражено неясно и напыщенно, сказано теперь проще и понятнее. И Шиллер, перерабатывая свои произведения, подчинялся не только эстетическим требованиям. Повелительными были и соображения идейные, свои, что необходимо, но и чужие, что редко бывает полезно. Та решительность, с которой выступает Шиллер в "Богах Греции" против единого бога христианской церковности, не нашла сочувствия в окружающих — и поэт пошел на уступки. Уступки эти находят выражение как в его объяснениях, так и в поправках, которыми он занялся. Первоначальный текст стихотворения теперь сокращен почти вдвое — и в этом тексте были, например, такие похвалы эллинской старине, не знавшей свирепости загробного возмездия; "Тогда над нежными существами, рожденными женщиной, еще не вершил суд по ужасающим законам священный варвар, глаза которого никогда не увлажнялись слезами". Но таких обличений "религии любви" не выносил обывательский мир читателей Шиллера, и в укоризнах сошлись на этот раз дружеская критика и критические враги. Шиллер пытался было защищаться: "Бог, которого я в "Богах Греции" рисую с темной стороны, — не бог философов и даже не благодетельная греза толпы: это уродливый сплав многих нелепых, жалких представлений. Боги Греции, которых я изображаю с их светлой стороны, — только привлекательные образы эллинской мифологии". Но пришлось ее переделывать.
Прославленная и впоследствии особенно популяризованная музыкой Бетховена хоровая песня "К радости" очень скоро перестала удовлетворять автора. Уже через пять лет по ее создании Шиллер писал Кернеру, что если она удостоилась чести сделаться народной лесной, то только потому, что шла навстречу дурному вкусу эпохи.
В соответствии с этим строгим взглядом Шиллер и не включил песню в первое собрание своих стихотворений. Он дал ей место в следующих изданиях, но при этом внес в нее ряд изменений, и достаточно вспомнить, что между первичным (в журнале 1786 ,г.) я переработанным (1800) текстами легли события французской революции, чтобы осмыслить политическую направленность переработки. Там, где теперь говорится "все люди становятся братьями" раньше было сказано: "нищие становятся братьями государя" и таким образом, если раньше подчеркивалось неравенство, то теперь поэт ограничивается неопределенным указанием на всечеловеческое братство. С другой стороны, если раньше провозглашался призыв к "человечности на тронах" и "теплоте в суровых судьях", то теперь он заменен напоминанием: "Гордость мужа перед троном, братья, хотя бы пришлось отдать достояние и кровь".
И, наконец, совершенно вычеркнута последняя строфа с — едва ли основательным — уверением, что всеисцеляющая радость избавит людей и от кандалов, и от ада: "Спасение от цепей тирании, великодушие — злодею, надежда — на смертном одре, милость — на страшном суде. И мертвые пусть будут живы! Братья, с чашей пойте хором: прощение всем грешникам, пусть не будет больше ада" и т. д.
6. В многократной переработке "Разбойников" надо иметь в виду разные слои; различные по времени, они различны по целям, различны по приемам, различны, наконец, и по судьбе, так как самые решительные переделки драмы, сделанные под давлением театральных заправил, исполнив свое печальное назначение, были навсегда отвергнуты Шиллером и не только не удержались на сцене, но и в печатный текст драмы никогда не входили.
До нас не дошли вычеркнутые еще до напечатания, "вследствие чрезмерной яркости или непристойности" сцены драмы, быть может, носившие следы спешки или возникновения в больничной обстановке. Уже первый издатель, познакомившись с корректурой драмы (которую автор решил было напечатать на свой страх), нашел здесь кои что "неподходящим для продажи высокопочтенной и благонравной публике". Пришлось пожертвовать частью набора, написать новое, более пространное и менее резкое предисловие с обстоятельным оправданием морального смысла драмы, и, наконец, решительно пройтись по ее тексту.
Кой-что из этого первоначального текста сохранилось, и мы можем видеть, куда были направлены теперь старания автора. Как ни грубы цинические замечания в диалоге между Карлом Моором и Шпильбергом (в сцене на саксонской границе), первоначально они были еще грубее. Важна, однако, не грубость, которую Шиллер смягчил бы, может быть, и без воздействия благонамеренного купца. Но смягчены также выпады Карла против "проклятого неравенства на свете" и против ненужного существования деспота, из-за которого "тысячи и тысячи людей съеживаются в угоду прихотям одного чрева". Здесь прославлялся дьявол, как "необычайный гении", дерзнувший вызвать на поединок самого "Всемогущего", пред которым "осеняют себя крестом наши бабы", тогда как человек сильный "готов жариться в люциферовом пекле вместе с Борджиа и Катилиной, лишь бы не угощаться в раю со всем обывательским дурачьем". И Шпигельберг поддерживает Карла известным аргументом против блаженств райского бытия: "Скажи богу спасибо, что ветхий Адам попробовал яблочка, а то заплесневели бы мы в пуховиках безделья со всеми нашими талантами и умом". Все это вычеркнуто.
Несмотря на эти и другие исправления, при первых же попытках добиться постановки пьесы, театр потребовал от автора изменений, которые врезались в самое существо драмы. Нет основания уделять этим сценическим переработкам слишком много внимания потому, что театральные изменения не удержались в печатном тексте. Но как ни сопротивлялся Шиллер хозяевам театра, он, в конце концов, пошел на уступки, которые нам, с детства знающим "Разбойников" в их каноническом виде, кажутся совершенно невероятными. Достаточно сказать, что все действие пьесы отодвинуто на два с половиной столетия назад (из 1757 в 1495 год)- Это обычный, практиковавшийся впоследствии и у нас цензурный прием — "переносится действие в Пизу, и спасен многотомный роман", — и Шиллер вынужден был согласиться на эту перемену. Полная пафоса борьбы с окружающим тиром, драма о современности должна была сделаться каким-то историческим представлением из эпохи заката рыцарства и кулачного права.
Шиллер возражал, что такому перенесению действия решительно противоречит как язык действующих лиц, так особенно их душевный склад: в конце XV вежа с его рыцарской "любовью" и католическим правоверием были немыслимы как отношения Карла и Амалии, так и рационалистическое богохульство Франца.
Независимо от этой хронологической переброски Шиллер внес ряд изменений, врезающихся в самое существо драмы. С самого появления Карла Моора он слабее и умереннее, чем в начальной версии. Острый первый монолог о "веке кастратов" с резкими характеристиками дореволюционных порядков заменен вялой речью и обезцвечен дальнейшим рассказом собеседника героя, Шпигельберга о вечном, земском мире, только что водворенном в Германии и уничтожившем кулачное право.
Театральное оцензурение приводит злополучного автора к курьезам, которые так забавны, что даже не печальны. Противоположение "закона" и "свободы" заменяется менее пугающим противоположением "мира" и "войны". Поэтому если раньше Карл Моор восклицал: "Закон не породил еще ни одного великого человека, свобода же создает великанов и героев", то теперь он вынужден сказать: "Мир не породил еще ни одного великого человека, война же создает великанов и героев". Но, ведь, это бессмыслица: неужто автор "Разбойников" не знал, сколько великих людей было порождено мирными временами и для мирного строительства? Раньше Карл Моор утверждал: "Поставь меня впереди войска из таких ребят как я, и Германия станет республикой, пред которой Рим и Спарта покажутся бабьими монастырями". Теперь он не смеет докончить и лепечет: "Поставь меня впереди войска из таких ребят как я, и Германия... ну, ну, нет, нет... Довольно!" Дальнейшие изменения в большинстве отмечены той же уступчивостью: ослаблена бесчеловечная жесткость Франца с отцом, и теперь достаточно невыносимая, вычеркнуто чтение библии на сцене, оскорбляющее религиозный пиэтет зрителя, самодовольная резкость католического священника передана светскому чиновнику, потрясающее самоубийство Франца заменено его... пожизненным заключением в подземельи, где он гноил родного отца. И героиня драмы не падает неизбежной и невинной жертвой решимости Карла, но кончает самоубийством, что, конечно, меняет его трагедию. А в заключение, вместо того, чтобы с самобичующим презрением уйти от своей шайки на смерть, Карл Моор благословляет своих разбойников, которые растроганно расходятся. Так работал Шиллер под чужим давлением, и жаловался в письме: "С меньшим умственным напряжением и, конечно, с гораздо большим удовольствием взялся бы я написать новую драму, чем еще раз быть принужденным к работе вроде проделанной".
7. По тем же театральным соображениям пришлось Шиллеру переделать "Фиеско" и, конечно, наперед ясно направление переделок. Быть может, согласовалось с требованиями самого Шиллера то, что язык диалогов был смягчен и очищен от "грубых выражений"; можно было согласиться на перенесение той или иной сцены в иную обстановку, что избавляло там и здесь от перемены декораций. Но прямо оскорбительно для замыслов Шиллера и для его художественной честности то, что он вынужден был избавить свою наглую графиню Джулию от конечного постыдного поражения и оскорблений, а клеврет ее преступного брата прокурор Ломеллино сделан менее гнусным. Властные заправилы театра становились, таким образом, на защиту Дориа против Фиеско — и против Шиллера. Но они защитили и Фиеско — по-своему: самая нелепая из переделок заключается в том, что теперь Фиеско в противоречие со своим характером, в противоречие со всей конструкцией трагедии в конце концов не погибает от руки Веррины, а добровольно, в сознании своего всемогущества отказывается от узурпированной власти: в ответ на мольбы Веррины, он хватает уж добытый скипетр и ломает его с возгласом: "Будьте свободны, генуэзцы". Так непреклонный и действенный революционер Веррина добывает свободу своему народу посредством коленопреклонения пред узурпатором, и трагедия кончается фарсом.
Нам, идущим за Шиллером, такой конец может казаться уродливо-юмористическим; для мещан всех рангов он был успокоительным уверением в устойчивости их положения, для самого автора он мог быть только печальной страницей в его литературной жизни. Упорство писателя в работе поддерживается только его верой в читателя — и этой верой измеряется: кто творит только для себя — если есть такие, — тот, естественно, удовлетворяется неполным оформлением. Настойчив и тщателен в работе тот, кто не отрывается в ней от мысли о читателе.
8. "Люди болтают об откровении, вдохновении и т. п., а я работаю как золотых дел мастер — говорил Гейне музыканту Гиллеру: — колечко за колечком, и одно в другое". Цитируя свои только что написанные стихи, он часто как-бы ошибался, однако, заметил однажды: "Не думайте, что мне изменила память: я выбираю из стольких вариантов, что в данный момент легко забываю, на каком остановиться окончательно". "Если бы вы знали — говорил он Пехту — как часто я целые дни, а то и недели провожу над отделкой одного стиха". Здесь нет преувеличения. "Вы верно полагаете, что я сыплю стихи из рукава", — сказал он как-то Дройзену — и тут же разобрал одно из своих стихотворений, чтобы показать, как неутомимо отделывал он его, "чтобы искусство перевило, наконец, в естественность, и стихи зазвучали вполне по народному".
Упорство Гейне в работе над текстом его произведений, как стихотворных, так и прозаических, явно превосходило обычную меру; одинаково свидетельствуют о нем как мемуаристы-очевидцы в различнейшие эпохи его жизни, так и позднейшие исследователи, как его черновые рукописи, так и последовательные печатные издания его сочинений. Особенно это относится, конечно, к лирике. Все элементы художественного создания охватывались этой обработкой: точность и выразительность, ритм и звуковая живопись, гармоничность впечатления и идейная обостренность. Именуя такую способность и такое тяготение к завершительной отделке талантов, Гейне видит в ней необходимый элемент того, что называется гением: "Гениальность в поэзии вещь очень многозначная — писал он в молодости Мохеру: — талант вещь более важная. Для всякого завершения необходим талант. Чтоб быть поэтическим гением — на это надо иметь талант. Это главная причина величия Гете. И это главная причина гибели столь многих поэтов. Например, моей!".
До гибели, однако, было далеко — и между прочим потому, что поэту Гейне в высокой степени был присущ тот талант упорства в обработке, которого он в те ранние годы в себе, как-будто, не ощущал. Неизменно он исходил из уверенности, что определенной мысли соответствует одно выражение, и этого выражения он искал — искал даже в формах чужого языка. Об этом говорят все его французские переводчики. Один из них Сен-Рене-Таландье, отмечая величайшую тщательность, с которой поэт помогал своему переводчику, настойчиво отыскивая в чужом языке подходящие слова и оттенки выражений, прибавляет: "Иногда это вызывало перемены в самом подлиннике". Другой переводчик Гренье продолжает в своих воспоминаниях те споры, которые вел с Гейне при совместной работе над иноязычной передачей его мысли: "Я убеждал его, что он идет слишком далеко в этой ювелирной работе, в этой чеканке, что французский вкус не допускает таких смелостей, как немецкий. Но он уступал редко... Быть может, он был прав". Француз почувствовал в языковом ощущении Гейне ту тонкость, то чутье, которое отмечает бывавший у него в поздние годы его жизни в Париже Эд. Ведекинд:
"В высшей степени присущ ему тот лирико-музыкальный слух, который всегда находит соответственную форму для воплощаемого образа и содержания, который не разрешит трех восьмых там, где нужен трех-четвертной такт, который, наконец, предпочитает иногда кажущуюся неуклюжесть, даже кажущуюся погрешность там, где она имеет смысл. Так вспоминаю юмористическое стихотворение о "старо-немецком" юноше-студенте, который, соблазненный питейными, игорными и иными домами в Касселе, попал, наконец на гауптвахту:
Es haben mich armen Jungling
Die bosen Gesellen verfuhret.
Он отлично сознавал, что правильная стопа требовала еще одного слога в слове "Sungung, но именно отсутствие этого слога музыкально усиливает иронический характер стихотворения".
Мы не остановились бы на этом указании, если бы оно было эстетическим выводом критика, отыскавшего новую художественную тонкость в стихотворении. Но здесь мы имеем не умозаключение, а сообщение свидетеля самого процесса работы. Гейне только что написал это стихотворение и в тот же день, встретившись на прогулке с Ведекиндом, прочитал ему. На замечание молодого человека, что следовало бы заменить рифмы последней строфы Sache u Wache рифмами на i — как в прочих строфах, — потому что это звучит острее, Гейне ответил: "Знаю, что эти два а не годятся, но мне в конце концов необходима гауптвахта. Это уж, знаете, такая версификационная штучка: Zu Kassel auf der Wache совсем не то, что Auf der Wache zu Kassel" и т. д.
Мы читаем стихотворение и не подозреваем, сколько внимания уделялось такой звуковой — и разве только звуковой? — мелочи, как не подозреваем того, какие сотрудники не считали мелким эти заботы поэта о гласных и согласных. Дочь Маркса однако рассказывает, что одно время Гейне чуть не каждый день заходил к ее отцу, чтобы прочитать ему свои новые стихи. "Безчисленное множество раз могли Маркс и Гейне перечитывать маленькое восьмистишие, упорно обсуждая то или иное слово и работая над отделкой до тех пор, пока все было гладко и стихотворение было свободно от всякого следа черной работы".
Об этой черной работе мы знаем от Гиллебранда. Нам известен уже его рассказ о рождении стихотворений Гейне в бессонные ночи. "Стихотворение всегда было готово к утру, но тогда начиналась отделка, длившаяся часами... При этом точно взвешивалось каждое настоящее и прошедшее, обсуждалось уместность каждого устаревшего или необычайного слова, выбрасывалась каждая элизия, отсекался каждый лишний эпитет".
И это не только в стихах. Специалист по немецкой стилистике и редактор первого издания "Мемуаров" Энгель считает, что из немецких прозаиков Гейне самый неутомимый правщик. Энгель жалуется на множество рукописных исправлений, загромождающих текст, и чрезвычайно затруднявших его работу. А, ведь, "Мемуары" писались и в "матрацной могиле", где с мучительной медленностью умирал и все же жил писатель, о физическом состоянии которого можно судить потому, что ему приходилось левой рукой придерживать опускающиеся веки в то время, как он делал правой карандашные поправки в своей рукописи. Он писал здесь: "Так как мое физическое состояние лишает меня всякой надежды когда-нибудь снова жить в обществе, которое в самом деде больше для меня не существует, то я сбросил с себя и оковы той личной суетности, которою страдает всякий вынужденный толкаться промеж людей, в так называемом свете". Энгель, пользовавшийся недоступной впоследствии исследователям рукописью, сопровождает это место следующим примечанием:
"Чтобы представить образец тщательности, с которою Гейне искал соответственнейшего выражения, приводим текст рукописи, не выделяя вычеркнутого: "... я освободился от суетности... Вот уж много лет как не страдаю той суетностью... скинул с себя ту суетность... давно уже излечился от той суетности... то для меня не существуют больше соображения той суетности". Все эти варианты Гейне вычеркнул и заменил вышеприведенными. Это не нерешительность, не колебания начинающего — это обычные искания зрелого мастера. Он всегда искал и всегда учился. "Я достаточно силен, — пишет он романтическому поэту Б. Мюллеру, чтобы признать, — что размер моего "Интермеццо" не случайно сходен с вашим обычным размером, но что он по всем вероятиям, глубочайшей тайной своего звучания обязан вашим песням". А Фарнгагену писал Гейне, что многому в деле стиля научился у него: — и всегда такая благодарность сопровождается у него совершенно определенными примерами.
9. Этой определенностью запечатлены советы, которые давал Гейне другим поэтам. Именно внимание к приемам мастерства и конкретность в замечаниях делали его выдающимся учителем поэтического ремесла.
Оценивая присланные ему отрывки из трагедии его товарища Штейнмана, он прежде всего отвергает ее стихотворный размер: "четырехстопные трохеи невыносимы в драме; быть может, по предрассудку, но я считаю пригодным для нее исключительно пятистопный ямб, и без рифмы, которая допустима лишь в исключительно лирических эпизодах, как, например, в диалоге Ромео и Юлия, а никак не в спокойных сценах экспозиции, как в твоей "Анне Клеве". Он требует не только иного размера, но и безжалостного устранения вставленных ради метра бессодержательных слов "вроде словечка "милый", которое, как тебе известно, мне совсем не мило". Прослушав балладу Ведекинда "Донья Клара", он заметил: "Не следует говорить, что она идет к отцу и говорит то- то и то -то: пусть она прямо скажет, что нужно, а вы прибавите: "Так говорила донья Клара отцу". Не понравились ему также рифмы на двойное г, как streben-leben, gehen-stehen. "Таких рифм — сказал он — следует по возможности избегать, в них нет металла!"
По поводу грациозной шуточной поэмы Иммермана, присланной ему в рукописи, Гейне отозвался письмом, настолько обширным и содержательным, что оно напечатано, как статья, среди его сочинений. Это подробнейший технический разбор с указаниями на недостатки и предложениями улучшенных вариантов. Целый печатный диет занимает этот стилистический анализ, и не только отрицательный; это самая тщательная редакторская правка, — с той, однако, особенностью, что здесь исправляет поэта подлинный поэт, тем раскрывая и требования своей самокритической работы. Об объеме этой работы у Гейне — как, впрочем, и у Шиллера и Гете — можно судить по множеству вариантов, обычно представляемых в научных изданиях его произведений.
10. В разнообразии направления и назначения этих поправок, громадное большинство связано с неуловимыми для перевода смысловыми и звуковыми оттенками. Ограничимся и здесь немногими примерами, поддающимися объяснению на чужом языке. Начав с самых ранних переработок, проследим их до последних произведений поэта.
В стихотворении "Ночью в каюте ("Северное море") поэт сравнивает глаза своей возлюбленной со звездами:
И мигают они и манят
С голубого небесного свода.
В первом издании говорилось об этих глазах-звездах:
И звенят они и манят
В следующем издании было исправлено:
И кивают они и манят.
В пяти изданиях было так напечатано, и лишь в шестом Гейне прибавил изящную мелочь:
... прибиты
Золотыми гвоздичками.
Затем Гейне вернулся к первой редакции; быть может, варианты показались ему слишком смелыми, потому что для узко-рассудочного воображения тогдашнего немецкого читателя глаза также мало могут звенеть, как и кивать. И, наконец, лишь для последнего (5) издания он нашел подходящий глагол blinken (мигают, искрятся). В этом же стихотворении в ряде изданий говорил поэт-мечтатель о недоступности звезд, которые он стремится заполучить:
Дурачок ты обманутый!
Коротка твоя рука и далеко небо,
И звезды крепко к нему прибиты.
Эта прибавленная подробность может казаться прелестной; один критик считает, что она удачно поэтизирует прозаическую картину звезд, прибитых к небу. Возможно, однако, иное. Ведь, только что эти недоступные звезды небесные были для поэта образом очей возлюбленной. Если вспомнить, что тоской по этой возлюбленной проникнуто все "Северное море" и что именно богатство ее отца-банкира помешало браку между нею и поэтом, то мы увидим в "золотых гвоздичках" не одну "прелестную", "поэтизирующую" деталь, но и колючий намек, который поэт ввел под конец в свое мучительное видение.
Прежние русские переводчики известной "истории" "Два рыцаря" с насмешками над грязноватой мелкотой из польской политической эмиграции, не заметили, что среди многочисленных польских фамилий, перебираемых в этом юмористическом стихотворении, большинство сочинено, и сочинено в стиле гротеска, то есть без шансов быть принятыми за реальность. Такие "польские" фамилии, как Крапюлинский и Вашляпский, Эскрокевич и Шубианский гротескны, то есть не реальны по той простой причине, что происходят от бранных иностранных слов: crapule значит по французски сволочь, Waschlappen — по немецки тряпка, escroc по французски — мошенник, Schubiak по немецки — грязный бродяжка и т. д. Это следовало передать приблизительно: Сволочинский, Тряпкинский, Жуликевич, Паршинский и т. п.; между тем все эти Крапюлинские остались неприкосновенными наравне с подлинными фамилиями настоящих польских героев как Собесский и У минский; только Эзелинский передан как Ослинский. Между тем Гейне тщательно обдумывал эти фамилии, он неоднократно менял их, заменяя новыми не только в рукописи, но и в печатных редакциях, где появлялись и Шафскопский (Болванский) и Канальовский и даже Бешайсский (от немецкого глагола beschaissen обгадить и даже грубее...).
Как вдумывался Гейне в едва заметные подробности и как тщательно подбирал их, видно хотя бы из конца "Диспута". Как известно, решение спора между равином и капуцином было в конце концов предоставлено королем его жене.
Донна Бланка на него
Посмотрела в размышленьи
И прижав ко лбу ладони,
Так сказала в заключенье.
Сохранилось два рукописных варианта. В обоих поэт не уверен, думает ли в самом деле королева: в обоих сказано, что она "как-будто думает". В печатном тексте она при этом "прижала ко лбу переплетенные пальцы; в одной рукописной редакции "склонила на руку кудрявую головку", в другой "подперла руками подбородок". Поэт хотел, чтобы его читатель острее воспринял противоположность между наивно-глубокомысленной позой юной королевы и неожиданной остротой ее глупенького ответа. Для этого надо было, чтобы читатель видел его героиню, а для этого надо было подобрать возможно более подсказывающую позу — и Гейне долго колебался между разными черточками ее внешнего облика.
Множеством поправок испещрены все рукописи и последовательные редакции произведений Гейне, как лирических, так и эпических; меньше исправлений в трагедиях, но к этим юношеским созданиям рано охладел поэт. Зато позднейшие редакции поэта носят следы решительной и жесткой правки: вереницы очень ярких строф вычеркнуты из "Германии" (вся вступительная глава), ряд эпизодов — из "Атта-Троля". Любопытен, например, вычеркнутый вариант знаменитой подписи под бюстом медведя, сочиненной для его памятника в Валгалле королем баварским. Здесь Атта-Троль не именуется, как в окончательной редакции, "первобытно-лесным санкюлотом" но в забавном сопоставлении самая "лапидарность" стиля бездарного венценосного поэта сравнивается по беспомощной неуклюжести с плясуном медведем;
Бюст его воздвигнут: справа
Лист, а слева Фанни Эльслер
Лапидарный стиль его там
Как товарища прославит:
Атта-Троль, медведь честнейший,
Уроженец Пиринеев,
Воспринявший от французов
Хладный ум, а от испанцев
Пламень их, пред чернью мрачно
Танцевавший на базарах,
Иногда при сем вонявший,
Не талант, но ведь характер.
Таким образом, в новой юмористической характеристике все узко-личное и просто забавное по нелепости (бюст плясуна медведя между двух знаменитостей эстрады — Франца Листа и Фанни Эльслер, и т. п.) заменено отчетливой социальной характеристикой.
В первоначальной характеристике ничего не говорилось о семейных добродетелях Атта-Троля; однако, это показалось Гейне пробелом в королевском панегирике медведю. Он колебался, каким супругом представит Атта-Троля в надписи король. Поэтому он сперва написал: "супруг бодрый" (wacker — хорошо исполняющий свои обязанности), во французском переводе самого поэта читаем: "супруг достойный" и, наконец, в окончательной редакции — brunstig, то есть пылкий, похотливый. Таким образом, в конце концов на памятнике, поставленном плясуну-медведю в национальном пантеоне Германии, король-панегирист воздает хвалу... сладострастию своего дрессированного героя. Это один из множества примеров того, как Гейне настойчиво добивался удовлетворяющего его выражения.
Эта вереница поправок показывает разные виды мотивов Гейневских вариантов — от художественного благозвучия до сатирического обострения. Напомним еще один мотив, который кой-кому может показаться неожиданным именно у Гейне: не раз он смягчал выразительность слова, вырвавшегося у него в первичном тексте: "Изменения, внесенные мною в отдел "Опять на родине", разумеется, свидетельствуют о моем внутреннем смирении и стремлении улучшиться: из 88 песен этой части я выкинул те, которые могли бы показаться предосудительным кой-кому из слабых и заменил их добродетельнейшими... В "Путешествии по Гарцу" я также вычеркнул все слишком резкое".
Это предуведомление достаточно насмешливо, чтобы ослабить доверие к стараниям Гейне пощадить чью то чувствительность. Слишком хорошо известно нам, как мало считался он с мещанским представлением о предосудительном. Однако, ряд его поправок в самом деле носит следы внимания к нервам и к чувству пристойности в читателе. Сгоряча поэт пишет для себя — стесняться не приходятся; но потом он перечитывает, вспоминает о тех, кто будет читать — и его самого не удовлетворяет его первоначальная резкость.
Отделкой стихотворения, доведением его до возможного совершенства не кончалась работа поэта; после всего его заботила мысль о том, какое место займет это стихотворение в связи с другими, в сборнике. Эту заботу знали и немецкие классики, и они понимали, что отдельные лирические признания не разрозненные эпизоды душевной истории, и что потому стихотворения при всей своей самостоятельности, углубляются и обогащаются сочетанием с другими. И Гете не только смыкал свои стихи в циклы, объединенные разными принципами, формальными и смысловыми, но я пробовал строить из них целые повествовательные группы, настолько скрепленные единством развития, что В. Шерер смог назвать один такой лирический сборник романом. Шиллер старался о таком же единстве и, работая над новым изданием своих стихов, писал Гете, что хотел бы приготовить дюжину-другую стихотворений, чтобы "заткнуть в сборнике некоторые пустоты, при заполнении которых могло бы получиться интересное целое". Но по истине в этом вопросе великие поэты Германии могут считаться лишь предшественниками Гейне, который по праву называл себя мастером композиции и настаивал на том, что его "Романсеро", "конечно, потеряло бы бесконечно много, если бы автор не уделил столько времени и размышлений внешнему расположению стихов". И его "Книга песен", при углублении в порядок отдельных стихотворений, оказывается стройной композицией, действительно напоминающей цельный роман — автобиографический роман, о несчастной любви поэта.
Горнфельд А.
Г. Как работали Гете, Шиллер и Гейне
10 глава
из книги известного русского литературоведа
"Как работали Гете, Шиллер и Гейне"
1.
Закрепленное в письменном плане или
обдуманное про себя, встает в общих
очертаниях будущее произведение пред
писателем. Начинается заполнение
схематического облика, начинается
обработка. Меньше всего знаем мы обычно
о первой стадии работы, по той простой
причине, что всякий черновик, непосредственно
следующий за первичным замыслом или
планом, каким бы изменениям и переделкам
он впоследствии ни подвергался, предстает
пред нами как нечто в известном смысле
завершенное. Согласно известному
замечанию Пушкина "единый план Дантова
Ада есть уже плод высокого гения".
Это, между прочим, значит, что вся
позднейшая работа по такому плану есть
осложнение чего-то уже созданного
поэтом. Только об этом преобразовании
готового говорят нам все документы
обработки, будет ли это завершительная
шлифовка языка или сюжетная перестройка
произведения, уже сделавшегося
общеизвестным. Из многого остановимся
на немногом — прежде всего на выборе
поэтами ритмического стиля их произведений,
затем на их переделках и вторичных
версиях.
Казалось бы, при громадной разнице в стиле стиха и прозы разве возможны колебания между стихотворным и прозаическим оформлением задуманного произведения? Неужто "Медный всадник" мог быть написан прозой и "Герой нашего времени" стихами? Конечно, нет, — но где установилась эта несомненность: в предварительном размышлении о форме выполнения, в единовременном зарождении формы и содержания или на одном из дальнейших этапов обработки? Мы имеем возможность указать ряд случаев, когда выполнение уже готового плана связывалось и для Гете, и для Шиллера с сомнениями Я размышлениями над предпочтительностью стиха или прозы для данной темы. Речь идет не о тех нередких у поэтов и указанных уже случаях, когда в лихорадочной работе над замыслом смысловая стихия стихотворного произведения — хотя бы экзальтированно-лирического — является поэту в прозе, и в прозе закрепляется в рассчете на будущее пересоздание. Здесь имеем в виду случаи, когда не первый замысел, а обработка большого продуманного произведения началась или продолжалась в связи с вопросом: стих или проза? Эти случаи и этот вопрос достойны внимания, прежде всего, как показатель глубокой значительности того, что в обиходе называется формой, и свидетельство о том, как с ее изменением меняется смысловая сторона произведения. Восхваляя только что прочитанную "Новеллу", Эккерман высказал в разговоре уверенность, что Гете работал здесь по очень определенному плану. "Это так, — отвечал Гете: - уж тридцать лет тому назад я собирался обработать этот сюжет, и с тех пор храню его в мысли. Чудно вышло у меня с этой работой. Тогда, вслед за "Германом и Доротеей" я предполагал сделать и из этого поэму в гексаметрах и даже составил для этой цели подробный план. А теперь, решив писать на этот сюжет, я не нашел старого плана; пришлось выработать новый, — и соответствующий измененной форме, в которую я теперь предположил облечь предмет. Но вот, Окончив работу, я вдруг отыскал тот старый план — и радуюсь, что он не попал в мои руки раньше, потому что он спутал бы меня. Все Действия и ход развития остались те же, но подробности вышли совсем другие. Все в целом было задумано для поэмы в гексаметрах и, стало быть, совсем не подходило бы для прозаического изображения".
Теория ясна: кто ищет формы, должен знать, что в зависимость т ее выбора ставит смысл своего произведения, — и это не мешало на практике весьма решительным колебаниям, а затем и переработкам вполне готовых эпизодов и целых произведений. Мы видим, задумав "Новеллу" в стихах, Гете — через тридцать лет — написал ее прозе. Но в стихах он ее не пробовал писать. Обычен другой путь: не стихи перерабатывались в прозу, а проза в стихи, и в этом отразились колебания в поэтике классиков. Ее развитие протекало борьбе между драматургией французского классицизма — драматургией отжившего феодализма — и драматургией "мещанской драмы". Приподнятость первой — так ощущалось и так формулировалось в теории — выражалась в условности ее стихотворного облачения, тогда как повседневная простота и правдивость второй находила выражение в ее безыскуственной прозе.
Теория требовала поправок, и очень существенных, — никто не скажет, что прозаический "Фиеско" правдивее стихотворного "Валленштейна"; но конкретная уверенность в этой многосторонней пригодности стиха пришла не сразу. Неотделимая от стиховой формы эллинская трагедия стояла как высочайший образец, но классики французской трагедии уже были объявлены "ложно-классиками", и проза завоевывала место в трагическом театре. Прозой пользовался в отдельных эпизодах Шекспир, прозу внедрял драматургический учитель поколения Лессинг, в прозе Гете написал "Геца", "Клавиго" и др., прозой перемежался первичный — и даже позднейший — "Фауст". Естественно, что первоначально в прозу отлилась и стремительно набросанная "Ифигения". Есть, однако, разница между старо-немецким сюжетом, взятым из подлинной политической и бытовой истории, как "Гец" или народной книжки, как "Фауст", и абстрактным эллинским мифом, уже драматизированным в трагедии Еврипида. Уже отвлеченная всеобщность речи действующих лиц свидетельствует об известной приподнятости языка в драме Гете. Что содержание и тон ее требовали не прозаического, а стихотворного стиля, явствует из того, что проза "Ифигении" есть во многих местах проза ритмическая, удобно поддающаяся рассечению на стопы и стихи. Лессинг от прозы "Минны" и "Эмилии Галотти" уже перешел к стиху "Натана Мудрого", вышедшего одновременно с переработанной "Ифигенией". Советы Виланда и чтение "Электры" Софокла были последним толчком.
Стих ощущался теперь как наиболее соответственная форма, и Гете, уже после шумного театрального успеха драмы, уже после двух прозаических версий, принялся за переработку прозы в пятистопный ямб. Дать при посредстве переводов надлежащее представление о том, в каком направлении и смысле изменилась от этого драма, тем труднее, что русский стихотворный перевод, в сущности, одинаково близок — или одинаково далек — как стихотворному, так и прозаическому немецкому тексту и, таким образом, невозможно даже сказать, с стихотворного подлинника сделан перевод или с прозаического. Перестраивая прозаическую речь в стихотворную, Гете менял как-будто немногое: здесь вычеркивал, там прибавлял словечко, здесь изменял порядок слов, там эпитет, — но в искусстве еле заметные оттенки часто играют решающую роль, и изменением незамеченных мелочей обусловливается глубокое изменение тона.
Если бы Гете в эти годы вернулся к "Фаусту", он, вероятно, уже тогда перевел бы в стихотворную форму прозаические сцены поэмы. Занявшись ею, он сразу почувствовал необходимость такой переработки. "Некоторые трагические сцены, написанные прозой, по реальности и силе совершенно невыносимы рядом с прочими, — писал он Шиллеру в 1798 г.: — Стараюсь теперь передать их в стихе, отчего идея просвечивает словно сквозь кисею, непосредственное же действие могучего материала приглушено". Результатом этой переработки была новая форма заключительной сцены в тюрьме — и мы видим здесь как стих, ни в какой степени не умалив, а скорее повысив "реальность и силу" сцены, гармонически слил ее страшную, грубую трагику с общим тоном пьесы.
2. Переписка поэтов в эти годы возвращения к "Фаусту" не раз отражает этот живой, практический их интерес к вопросам стиха. Поэтическая практика связывается с вопросами версификационной теории. На сообщение Гете, что он занят улучшением прозодии своих стихов Шиллер отвечает: "Отчетливость, размера имеет ту своеобразную особенность, что она является внешним выражением внутренней необходимости мысли, между тем как вольность, нарушение размера, наоборот, подчеркивает известный произвол". И, приступая к переложению прозаического Валленштейна в стихи, он писал: "Никогда до этой работы я не убеждался с такой очевидностью, как велика взаимная зависимость, связующая в поэзии содержание и форму, даже чисто внешнюю. С тех пор как я перерабатываю мой прозаический язык в поэтически-ритмический, я подсуден уже совершенно иному суду, чем раньше; даже многие мотивы, казавшиеся вполне уместными в прозаическом одеянии, оказываются непригодными для меня; они годились для повседневного обиходного рассудка, голосом которого, очевидно, является проза; стих же безусловно требует связи с воображением, и таким образом мне пришлось стать поэтичнее также во многих моих мотивах. По правде, следовало бы, собственно, все возвышающееся над заурядностью, задумывать, по крайней мере, в начале, в стихотворной форме, ибо пошлость никогда не выступает с такой очевидностью, как выраженная в связанной речи". Эстетским парадоксом звучала бы эта последняя мысль в других устах: для Шиллера она была откликом продуманного опыта: у него ведь были в прошлом колебания при обработке "Дон Карлоса", а в настоящем переработка "Валленштейна". Как всегда, художественные требования совпадали здесь с политическими. Положительная освободительная программа, широко и возвышенно развернутая в патетических речах героя, вождя, провозвестника, требовала убедительной формы, до которой не доросла проза Шиллера: в ее якобы реальные условности не мог еще с предельной, в данных условиях, правдивостью отлиться тот пафос, выразить который поручал своим молодым героям Шиллер. Действия Карла Моора говорят за него, но речи его риторичны до крикливости. Старик Миллер адекватен в правдивости своей простой речи, но Фердинанд также велеречив, как и Фиеско. Понемногу это начинал чувствовать ученик Руссо, до сих пор, в боязни разрыва с "природой", считавший стихотворную речь трагического героя отступлением от "естественности".
"Не могу себе простить, — писал теперь Шиллер, — что из упрямства, а, может быть, и из честолюбия я пытался блистать в противоположной сфере, что сковывал свою фантазию тисками буржуазного котурна, в то время, как "высокая трагедия" представляет столь благодарную почву, могу оказать, прямо созданную для меня..." Однако, он и "Валленштейна" начал было в прозе. Но вновь советы и пример большого специалиста вернули его на должный путь: статьи А. В. Шлегеля, беседы с ним и особенно его переводы Шекспира привели Шиллера к "исполнению последнего требования, предъявляемого к совершенной трагедии": он приступил к облечению прозаической сцены между Максом и Теклой в ямбические стихи я вскоре опять удивлялся, как мог начать свою драму в прозе. Переработанные сцены, — так сообщал он в письме, — явились ему в совершенно новом виде. Все характеры и положения, несмотря на их разнообразие, подчинила себе всеуравнивающая мощь ритма, и приподнятая выразительность сообщила возвышенный характер также мотивировке.
Эти переработки — показатель тех путей, которыми идет поэт в своих сомнениях. Иногда колебания сковывают его вдохновение, чаще, отдавшись прихоти творческого мгновения, он создает нечто, что удовлетворяет лишь в основе, но требует обработки, перестройки, требует новой работы. Основные переработки и двойные редакции Гете относятся к его большим произведениям. Однако и в лирике он многократно подвергал текст не только стилистической чеканке, но и более глубокой обработке, дающей в результате новый текст.
3. Проходя мимо версий и поправок, понятных лишь читающему в немецком подлиннике — а таких поправок громадное большинство,— отметим кой-что из тех случаев, когда поэтом руководили более внутренние, смысловые соображения, очень тонкие, конечно, как всегда бывает в чистой лирике, но все же очевидные. Знаменитая "Степная розочка", в основе имеющая народную песню, не только подвергалась неоднократной отделке, но, — если считать первоначальным безымянный текст в сборнике Гердера, — постепенно меняясь, решительно отходила от своего первоначального облика. В трех ее строфах с припевом рассказано, как мальчик, увидев в степи розу, захотел сорвать ее; роза пригрозила ему шипами, однако, это не спасло ее: она защищалась, но мальчик ее сорвал. В первичной версии все; не так: речь идет не о дикой розе, а о почке фруктового дерева; в ответ на желание мальчика сорвать ее, она пригрозила ему не уколом, а тем, что с ее гибелью он не получит и никаких плодов с дерева. Так и вышло. И стихотворение, достаточно напоминающее своей моралью басню, кончается прямым поучением: "Мальчик, рано не срывай надежду сладкого расцвета. Ибо, ах, увянет она скоро, и нигде ты не увидишь плодов твоего расцвета". Ничего этого нет в окончательной редакции, сжатой, выразительной, с ее образной многозначностью, допускающей любое конкретное осмысление текста, с ее бессодержательным, но полным чувства припевом: "Роза, розочка моя, розочка степная".
В ряде новых редакций мы отмечаем стремление поэта от взволнованной субъективности, отразившейся в первом наброске, перейти к объективному изображению. Нет возможности объяснять по-русски мелкие изменения, передвинувшие центр тяжести от личности поэта к более широкому ощущению всеобщего чувства и мысли, как, например, в переработках стихотворений "С разрисованной лентой", "К месяцу" и др.
То, что еле уловимо в обновленных текстах интимной лирики, становится более отчетливым в переработках больших произведений. И здесь, как мы это отчасти видели, Гете, первоначально отталкиваясь от более индивидуальных запросов, в дальнейшем переделывает свое произведение затем, чтобы, идя навстречу социальному тогда довольно грубому — "заказу", преодолеть первичную субъективность. Иногда этим возвышается его произведение, иногда принижается, но дело не в нашей оценке результатов работы, а в ее приемах и мотивах.
Драма о Геце, при всем тяготении Гете к историческому в широком смысле познанию, уже в начале не была для автора опытом изображения прошлого, но боевым откликом на современность. Мало было прославить старую германскую доблесть: автор чувствовал себя единомышленником бунтаря-Геца, нравственному и государственному разложению он противополагал твердость, мужество, свободолюбие поднявшегося крестьянина. Политическая тенденция наростала в работе над драмой. В первоначальном "Геце" более значительной фигурой выступала, как мы знаем, общая соблазнительница Адельгейда которую окончательная версия лишила части ее чародейственного обаяния. И не только в этом политическая тенденция выдвинута за счет любовных мотивов. Отчетливее, подобраннее сделан образ самого Геца. Он не приближен к историческому подлиннику.
Следуя в общем само-идеалиэации своего героя, предложенной Гецом в его автобиографии, Гете по прежнему не считался с тем, что исторический Гец был насильник, забияка и профессионал рыцарского грабительства. Взаимные подвохи и грызня мелких князей, бессилие императора, корысть поповства и купцов осталась, но ряд сцен, оскорбительных для чувства предполагаемых читателей, устранен в окончательной редакции. Жертвой этой морально-эстетической чистки пало только изображение свирепости крестьянской войны, сцена удушения и др., но и словесная размашистость первичной редакции ослаблена по тем же соображениям. Эта первичная редакция полна гипербол, впоследствии — как говорит Шерер — "доведенных до своего рода классического совершенства в "Разбойниках" Шиллера". Особенно гиперболичны числовые определения времени. "Хотя бы они сто лет на моих глазах истекали кровью, месть моя не утолилась бы", — говорит Мецлер об избиваемых феодалах. И дальше: "Бушуй ветер, развей в клочья их души и тысячу лет кружи их вокруг земли, и еще тысячу лет, пока не вспыхнет пламенем вселенная!" Вся эта риторика — быть может, и правдивая в устах вожака восставших крестьян, — вычеркнута в окончательной редакции.
Переработка "Вертера", произведенная через десять лет после появления романа, также есть выражение необходимости удовлетворить — законные или неосновательные— требования читателей. В романе были выведены живые люди, друзья автора, и они были огорчены своими изображениями. Сперва — пред лицом высших художественных соображений — их протест представлялся поэту мелким. "О неверующие, о маловерные,— писал он чете Кестнеров, недовольной тем, как они изображены в романе: — если бы вы могли почувствовать тысячную долю того, что "Вертер" дал тысячам сердец, вы не задумывались бы над расценкой вашей доли, в него вложенной". Все же и некоторая основательность недовольства Кестнеров и иные соображения побудили Гете уступить и приняться за переработку, которая представилась ему делом "деликатным и опасным".
Он обещает Кестнеру "так осветить Альберта, что не понять его существо сможет пламенный юноша (т. е. Вертер), но не читатель". Новая редакция "Вертера" заключает немногие, но существенные изменения. Прежде всего ослаблена сложность мотивов самоубийства, которую ставили в вину автору читатели столь значительные и столь различные, как Гердер и Наполеон. В первой редакции Вертер убивает себя не только потому, что любимая женщина не может быть его женою, но и потому, что он вообще не в силах жить в этом мире социального неравенства и гнета. "Он не забыл — говорилось здесь — о неприятности, жертвой которой сделался на посольской службе. Он редко вспоминал о ней, но и при самых отдаленных намеках чувствовалось, что он считает свою честь непоправимо оскорбленной". Это вычеркнуто в окончательной версии: здесь за записью Вертера в дневнике о том, что безнадежность любви приводит его к мысли о самоубийстве, следует сообщение рассказчика, что под влиянием этой безнадежности твердым и непреложным стало намерение героя покончить с собой. Итак, общественный мотив оскорбленного достоинства отодвинут в роковом решении на далекий план. Ряд письменных и устных признаний Вертера в новой редакции еще обостряет значение его всепоглощающей любви. Таким образом, окружающий мир потребовал от поэта, чтобы он за счет критического отношения его героя к быту и к миру усилил индивидуалистическую окраску его гибели, ослабив в его трагедии оттенок общественного обличения. Сюда же относится и введение в повесть эпизода с батраком-убийцей. И
Вертер, и батрак не могли вынести безнадежности своей любви, и оба вынуждены были насильственно покончить с этим мучительным состоянием. Но утонченный и благородный Вертер мог убить только себя, а "душевно грубый мужик" убил соперника: для Гете и, конечно, для его читателей здесь не одно различие индивидуальных натур, не разница морального уровня в пределах одного социального слоя. Это разница общественная, разница классовая.
Так новые оттенки, внесенные автором при обновлении романа, представляют собой уступку консервативности окружающего его общества, уступку традиционной морали, несмотря на протестующую основу Вертера. Кестнер с женой были милые обыватели и они были правы, жалуясь на то, что в результате романа Гете их личная жизнь выволочена на улицу и стала предметом пересудов. Но, признав правоту друзей и возвысив новыми черточками облик Лотты и в особенности характер ее мужа, Гете знал, и мы знаем, что эта их стыдливость все же подсказана условностями их быта и нравов, их мещанской безкрылостью.
4. Социальную окраску отмечают и в чисто стилистической правке нового "Вертера". В том, что тонкости выражения вообще заботили Гете, нет, конечно, ничего удивительного. Не из лирики, существо которой требует шлифовки языковых мелочей, — из больших произведений приведем пример заботы о мелочи чисто звуковой. Назвав свою автобиографию "Поэзией и правдой" своей жизни, Гете колебался, какое поставить первым из этой пары существительных. Дело было на этот раз не в своеобразном смысле, который вкладывал писатель в эти слова и на котором нам не приходится останавливаться, но в благозвучии того или иного порядка слов. Если сказать Wahrheit und Dichtung, и Гете иногда сам говорил так — то рядом окажется два U, а в Dichtung und Wahrheit некрасиво звучат рядом два и. В конце концов Гете предпочел последнее.
Количество таких поправок в "Вертере", свидетельствующее о работе Гете над прозаическим языком, очень велико и направление их очень разнообразно. Десятки страниц заняло бы перечисление изменений, внесенных при отделке в язык романа, в морфологические формы, в словесный состав и стилистику. Мы определили бы тенденцию этой отделки как борьбу со своим прошлым. Провинциал поездил по миру, зажиточный горожанин сделался придворным, мастер языка ощутил, что за пределами его франкфуртской речи есть язык общегерманский, литературный, утонченный. Все это отражается на новом тексте "Вертера". Устарелое уступает место современному: вместо verstund Гете говорит verstand, вместо gewest пишет gewesen. Областное заменяется литературным, и вместо прежнего франкфуртского Bub мы сплошь находим более общее Junge. Ярко отразилась в поправках также сложность отношения Гете к националистическому пуризму. Теоретически в прозе и в стихах Гете возражал против чистильщиков языка от иностранщины. Но он прошел в этом известный путь и сам настойчиво очищал язык своих произведений от иностранных элементов. Пересматривая "Вильгельма Мейстера" для полного собрания сочинений (1805), он, главным образом, сосредоточился на замене варваризмов немецкими словами, а в 1813 г. поручил соответственную работу по "Поэзии и правде" Римеру, которому писал: "Уполномачиваю вас заменять в рукописи иностранные слова немецкими... В этом вопросе я не своенравен и не легкомыслен". Начало этого "националистического" пересмотра языка мы находим именно во второй редакции "Вертера". Здесь сохранено еще множество иностранных слов — и почему бы им не сохраниться? Но не мало их заменено немецкими: Гете уже пишет не passirt, a geschehen, не Melancholie, a Schwermut, не Demission, a Entlassung и т. д.
Больше всего, однако, среди поправок бросается в глаза замена резких выражений более мягкими. Молодой человек, только что отошедший от студенческой размашистости, "буршикозности" в языке, молодой автор, стоявший в рядах неукротимых "гениев" школы "бури и натиска" был, естественно, склонен к гиперболе, решителен и простонародно-грубоват в выражении. Он протестовал против многого в моральном быту и в общественном строе: неужто он должен был заботиться о сдержанности своих обличений? Но признанный писатель, удостоенный дружбы герцога, возлюбленный утонченной и умеряющей Шарлотты Штейн, смягчает растрепанность выражений своего героя.
Во множестве случаев слово Kerl (человек, каналья, "субъект"), заменяется словом Mansch или Mann (человек), и штаны (Hose) заменяются брюками (Beinkleider). Тот, кто попросту обзывался "скупой собакой", теперь определяется как "торгаш, недостойный звания купца"; претенциозная пасторша называлась "болезненным животным", "мордой, изъявляющей притязания на ученость", теперь она только "болезненное создание" и притязательная "дурочка". И, наконец, если о князе раньше говорилось tolpelt (тычется в недоумении, от слова Tolpel — болван), то в новом тексте вежливо значится stolpert (натыкается).
5. Шиллер не любил переделок, — слишком много произвел он их под чужим давлением. Да и чисто художественная отделка, несмотря на множество вариантов и поправок в его лирике и драме, тяготила его, и он горько жаловался в письме к Кернеру: "Нет более неблагодарной работы, чем отделка стихотворений: невероятная затрата времени, к тому же теряемого понапрасну: ибо в большинстве случаев возвращаешься к тому, с чего начал. А первое настроение, в котором оно создалось, исчезло".
Однако, он перерабатывал много; в стихотворении "Мои цветы" после переделки сохранились неприкосновенными лишь немногие стихи, и то, что было выражено неясно и напыщенно, сказано теперь проще и понятнее. И Шиллер, перерабатывая свои произведения, подчинялся не только эстетическим требованиям. Повелительными были и соображения идейные, свои, что необходимо, но и чужие, что редко бывает полезно. Та решительность, с которой выступает Шиллер в "Богах Греции" против единого бога христианской церковности, не нашла сочувствия в окружающих — и поэт пошел на уступки. Уступки эти находят выражение как в его объяснениях, так и в поправках, которыми он занялся. Первоначальный текст стихотворения теперь сокращен почти вдвое — и в этом тексте были, например, такие похвалы эллинской старине, не знавшей свирепости загробного возмездия; "Тогда над нежными существами, рожденными женщиной, еще не вершил суд по ужасающим законам священный варвар, глаза которого никогда не увлажнялись слезами". Но таких обличений "религии любви" не выносил обывательский мир читателей Шиллера, и в укоризнах сошлись на этот раз дружеская критика и критические враги. Шиллер пытался было защищаться: "Бог, которого я в "Богах Греции" рисую с темной стороны, — не бог философов и даже не благодетельная греза толпы: это уродливый сплав многих нелепых, жалких представлений. Боги Греции, которых я изображаю с их светлой стороны, — только привлекательные образы эллинской мифологии". Но пришлось ее переделывать.
Прославленная и впоследствии особенно популяризованная музыкой Бетховена хоровая песня "К радости" очень скоро перестала удовлетворять автора. Уже через пять лет по ее создании Шиллер писал Кернеру, что если она удостоилась чести сделаться народной лесной, то только потому, что шла навстречу дурному вкусу эпохи.
В соответствии с этим строгим взглядом Шиллер и не включил песню в первое собрание своих стихотворений. Он дал ей место в следующих изданиях, но при этом внес в нее ряд изменений, и достаточно вспомнить, что между первичным (в журнале 1786 ,г.) я переработанным (1800) текстами легли события французской революции, чтобы осмыслить политическую направленность переработки. Там, где теперь говорится "все люди становятся братьями" раньше было сказано: "нищие становятся братьями государя" и таким образом, если раньше подчеркивалось неравенство, то теперь поэт ограничивается неопределенным указанием на всечеловеческое братство. С другой стороны, если раньше провозглашался призыв к "человечности на тронах" и "теплоте в суровых судьях", то теперь он заменен напоминанием: "Гордость мужа перед троном, братья, хотя бы пришлось отдать достояние и кровь".
И, наконец, совершенно вычеркнута последняя строфа с — едва ли основательным — уверением, что всеисцеляющая радость избавит людей и от кандалов, и от ада: "Спасение от цепей тирании, великодушие — злодею, надежда — на смертном одре, милость — на страшном суде. И мертвые пусть будут живы! Братья, с чашей пойте хором: прощение всем грешникам, пусть не будет больше ада" и т. д.
6. В многократной переработке "Разбойников" надо иметь в виду разные слои; различные по времени, они различны по целям, различны по приемам, различны, наконец, и по судьбе, так как самые решительные переделки драмы, сделанные под давлением театральных заправил, исполнив свое печальное назначение, были навсегда отвергнуты Шиллером и не только не удержались на сцене, но и в печатный текст драмы никогда не входили.
До нас не дошли вычеркнутые еще до напечатания, "вследствие чрезмерной яркости или непристойности" сцены драмы, быть может, носившие следы спешки или возникновения в больничной обстановке. Уже первый издатель, познакомившись с корректурой драмы (которую автор решил было напечатать на свой страх), нашел здесь кои что "неподходящим для продажи высокопочтенной и благонравной публике". Пришлось пожертвовать частью набора, написать новое, более пространное и менее резкое предисловие с обстоятельным оправданием морального смысла драмы, и, наконец, решительно пройтись по ее тексту.
Кой-что из этого первоначального текста сохранилось, и мы можем видеть, куда были направлены теперь старания автора. Как ни грубы цинические замечания в диалоге между Карлом Моором и Шпильбергом (в сцене на саксонской границе), первоначально они были еще грубее. Важна, однако, не грубость, которую Шиллер смягчил бы, может быть, и без воздействия благонамеренного купца. Но смягчены также выпады Карла против "проклятого неравенства на свете" и против ненужного существования деспота, из-за которого "тысячи и тысячи людей съеживаются в угоду прихотям одного чрева". Здесь прославлялся дьявол, как "необычайный гении", дерзнувший вызвать на поединок самого "Всемогущего", пред которым "осеняют себя крестом наши бабы", тогда как человек сильный "готов жариться в люциферовом пекле вместе с Борджиа и Катилиной, лишь бы не угощаться в раю со всем обывательским дурачьем". И Шпигельберг поддерживает Карла известным аргументом против блаженств райского бытия: "Скажи богу спасибо, что ветхий Адам попробовал яблочка, а то заплесневели бы мы в пуховиках безделья со всеми нашими талантами и умом". Все это вычеркнуто.
Несмотря на эти и другие исправления, при первых же попытках добиться постановки пьесы, театр потребовал от автора изменений, которые врезались в самое существо драмы. Нет основания уделять этим сценическим переработкам слишком много внимания потому, что театральные изменения не удержались в печатном тексте. Но как ни сопротивлялся Шиллер хозяевам театра, он, в конце концов, пошел на уступки, которые нам, с детства знающим "Разбойников" в их каноническом виде, кажутся совершенно невероятными. Достаточно сказать, что все действие пьесы отодвинуто на два с половиной столетия назад (из 1757 в 1495 год)- Это обычный, практиковавшийся впоследствии и у нас цензурный прием — "переносится действие в Пизу, и спасен многотомный роман", — и Шиллер вынужден был согласиться на эту перемену. Полная пафоса борьбы с окружающим тиром, драма о современности должна была сделаться каким-то историческим представлением из эпохи заката рыцарства и кулачного права.
Шиллер возражал, что такому перенесению действия решительно противоречит как язык действующих лиц, так особенно их душевный склад: в конце XV вежа с его рыцарской "любовью" и католическим правоверием были немыслимы как отношения Карла и Амалии, так и рационалистическое богохульство Франца.
Независимо от этой хронологической переброски Шиллер внес ряд изменений, врезающихся в самое существо драмы. С самого появления Карла Моора он слабее и умереннее, чем в начальной версии. Острый первый монолог о "веке кастратов" с резкими характеристиками дореволюционных порядков заменен вялой речью и обезцвечен дальнейшим рассказом собеседника героя, Шпигельберга о вечном, земском мире, только что водворенном в Германии и уничтожившем кулачное право.
Театральное оцензурение приводит злополучного автора к курьезам, которые так забавны, что даже не печальны. Противоположение "закона" и "свободы" заменяется менее пугающим противоположением "мира" и "войны". Поэтому если раньше Карл Моор восклицал: "Закон не породил еще ни одного великого человека, свобода же создает великанов и героев", то теперь он вынужден сказать: "Мир не породил еще ни одного великого человека, война же создает великанов и героев". Но, ведь, это бессмыслица: неужто автор "Разбойников" не знал, сколько великих людей было порождено мирными временами и для мирного строительства? Раньше Карл Моор утверждал: "Поставь меня впереди войска из таких ребят как я, и Германия станет республикой, пред которой Рим и Спарта покажутся бабьими монастырями". Теперь он не смеет докончить и лепечет: "Поставь меня впереди войска из таких ребят как я, и Германия... ну, ну, нет, нет... Довольно!" Дальнейшие изменения в большинстве отмечены той же уступчивостью: ослаблена бесчеловечная жесткость Франца с отцом, и теперь достаточно невыносимая, вычеркнуто чтение библии на сцене, оскорбляющее религиозный пиэтет зрителя, самодовольная резкость католического священника передана светскому чиновнику, потрясающее самоубийство Франца заменено его... пожизненным заключением в подземельи, где он гноил родного отца. И героиня драмы не падает неизбежной и невинной жертвой решимости Карла, но кончает самоубийством, что, конечно, меняет его трагедию. А в заключение, вместо того, чтобы с самобичующим презрением уйти от своей шайки на смерть, Карл Моор благословляет своих разбойников, которые растроганно расходятся. Так работал Шиллер под чужим давлением, и жаловался в письме: "С меньшим умственным напряжением и, конечно, с гораздо большим удовольствием взялся бы я написать новую драму, чем еще раз быть принужденным к работе вроде проделанной".
7. По тем же театральным соображениям пришлось Шиллеру переделать "Фиеско" и, конечно, наперед ясно направление переделок. Быть может, согласовалось с требованиями самого Шиллера то, что язык диалогов был смягчен и очищен от "грубых выражений"; можно было согласиться на перенесение той или иной сцены в иную обстановку, что избавляло там и здесь от перемены декораций. Но прямо оскорбительно для замыслов Шиллера и для его художественной честности то, что он вынужден был избавить свою наглую графиню Джулию от конечного постыдного поражения и оскорблений, а клеврет ее преступного брата прокурор Ломеллино сделан менее гнусным. Властные заправилы театра становились, таким образом, на защиту Дориа против Фиеско — и против Шиллера. Но они защитили и Фиеско — по-своему: самая нелепая из переделок заключается в том, что теперь Фиеско в противоречие со своим характером, в противоречие со всей конструкцией трагедии в конце концов не погибает от руки Веррины, а добровольно, в сознании своего всемогущества отказывается от узурпированной власти: в ответ на мольбы Веррины, он хватает уж добытый скипетр и ломает его с возгласом: "Будьте свободны, генуэзцы". Так непреклонный и действенный революционер Веррина добывает свободу своему народу посредством коленопреклонения пред узурпатором, и трагедия кончается фарсом.
Нам, идущим за Шиллером, такой конец может казаться уродливо-юмористическим; для мещан всех рангов он был успокоительным уверением в устойчивости их положения, для самого автора он мог быть только печальной страницей в его литературной жизни. Упорство писателя в работе поддерживается только его верой в читателя — и этой верой измеряется: кто творит только для себя — если есть такие, — тот, естественно, удовлетворяется неполным оформлением. Настойчив и тщателен в работе тот, кто не отрывается в ней от мысли о читателе.
8. "Люди болтают об откровении, вдохновении и т. п., а я работаю как золотых дел мастер — говорил Гейне музыканту Гиллеру: — колечко за колечком, и одно в другое". Цитируя свои только что написанные стихи, он часто как-бы ошибался, однако, заметил однажды: "Не думайте, что мне изменила память: я выбираю из стольких вариантов, что в данный момент легко забываю, на каком остановиться окончательно". "Если бы вы знали — говорил он Пехту — как часто я целые дни, а то и недели провожу над отделкой одного стиха". Здесь нет преувеличения. "Вы верно полагаете, что я сыплю стихи из рукава", — сказал он как-то Дройзену — и тут же разобрал одно из своих стихотворений, чтобы показать, как неутомимо отделывал он его, "чтобы искусство перевило, наконец, в естественность, и стихи зазвучали вполне по народному".
Упорство Гейне в работе над текстом его произведений, как стихотворных, так и прозаических, явно превосходило обычную меру; одинаково свидетельствуют о нем как мемуаристы-очевидцы в различнейшие эпохи его жизни, так и позднейшие исследователи, как его черновые рукописи, так и последовательные печатные издания его сочинений. Особенно это относится, конечно, к лирике. Все элементы художественного создания охватывались этой обработкой: точность и выразительность, ритм и звуковая живопись, гармоничность впечатления и идейная обостренность. Именуя такую способность и такое тяготение к завершительной отделке талантов, Гейне видит в ней необходимый элемент того, что называется гением: "Гениальность в поэзии вещь очень многозначная — писал он в молодости Мохеру: — талант вещь более важная. Для всякого завершения необходим талант. Чтоб быть поэтическим гением — на это надо иметь талант. Это главная причина величия Гете. И это главная причина гибели столь многих поэтов. Например, моей!".
До гибели, однако, было далеко — и между прочим потому, что поэту Гейне в высокой степени был присущ тот талант упорства в обработке, которого он в те ранние годы в себе, как-будто, не ощущал. Неизменно он исходил из уверенности, что определенной мысли соответствует одно выражение, и этого выражения он искал — искал даже в формах чужого языка. Об этом говорят все его французские переводчики. Один из них Сен-Рене-Таландье, отмечая величайшую тщательность, с которой поэт помогал своему переводчику, настойчиво отыскивая в чужом языке подходящие слова и оттенки выражений, прибавляет: "Иногда это вызывало перемены в самом подлиннике". Другой переводчик Гренье продолжает в своих воспоминаниях те споры, которые вел с Гейне при совместной работе над иноязычной передачей его мысли: "Я убеждал его, что он идет слишком далеко в этой ювелирной работе, в этой чеканке, что французский вкус не допускает таких смелостей, как немецкий. Но он уступал редко... Быть может, он был прав". Француз почувствовал в языковом ощущении Гейне ту тонкость, то чутье, которое отмечает бывавший у него в поздние годы его жизни в Париже Эд. Ведекинд:
"В высшей степени присущ ему тот лирико-музыкальный слух, который всегда находит соответственную форму для воплощаемого образа и содержания, который не разрешит трех восьмых там, где нужен трех-четвертной такт, который, наконец, предпочитает иногда кажущуюся неуклюжесть, даже кажущуюся погрешность там, где она имеет смысл. Так вспоминаю юмористическое стихотворение о "старо-немецком" юноше-студенте, который, соблазненный питейными, игорными и иными домами в Касселе, попал, наконец на гауптвахту:
Es haben mich armen Jungling
Die bosen Gesellen verfuhret.
Он отлично сознавал, что правильная стопа требовала еще одного слога в слове "Sungung, но именно отсутствие этого слога музыкально усиливает иронический характер стихотворения".
Мы не остановились бы на этом указании, если бы оно было эстетическим выводом критика, отыскавшего новую художественную тонкость в стихотворении. Но здесь мы имеем не умозаключение, а сообщение свидетеля самого процесса работы. Гейне только что написал это стихотворение и в тот же день, встретившись на прогулке с Ведекиндом, прочитал ему. На замечание молодого человека, что следовало бы заменить рифмы последней строфы Sache u Wache рифмами на i — как в прочих строфах, — потому что это звучит острее, Гейне ответил: "Знаю, что эти два а не годятся, но мне в конце концов необходима гауптвахта. Это уж, знаете, такая версификационная штучка: Zu Kassel auf der Wache совсем не то, что Auf der Wache zu Kassel" и т. д.
Мы читаем стихотворение и не подозреваем, сколько внимания уделялось такой звуковой — и разве только звуковой? — мелочи, как не подозреваем того, какие сотрудники не считали мелким эти заботы поэта о гласных и согласных. Дочь Маркса однако рассказывает, что одно время Гейне чуть не каждый день заходил к ее отцу, чтобы прочитать ему свои новые стихи. "Безчисленное множество раз могли Маркс и Гейне перечитывать маленькое восьмистишие, упорно обсуждая то или иное слово и работая над отделкой до тех пор, пока все было гладко и стихотворение было свободно от всякого следа черной работы".
Об этой черной работе мы знаем от Гиллебранда. Нам известен уже его рассказ о рождении стихотворений Гейне в бессонные ночи. "Стихотворение всегда было готово к утру, но тогда начиналась отделка, длившаяся часами... При этом точно взвешивалось каждое настоящее и прошедшее, обсуждалось уместность каждого устаревшего или необычайного слова, выбрасывалась каждая элизия, отсекался каждый лишний эпитет".
И это не только в стихах. Специалист по немецкой стилистике и редактор первого издания "Мемуаров" Энгель считает, что из немецких прозаиков Гейне самый неутомимый правщик. Энгель жалуется на множество рукописных исправлений, загромождающих текст, и чрезвычайно затруднявших его работу. А, ведь, "Мемуары" писались и в "матрацной могиле", где с мучительной медленностью умирал и все же жил писатель, о физическом состоянии которого можно судить потому, что ему приходилось левой рукой придерживать опускающиеся веки в то время, как он делал правой карандашные поправки в своей рукописи. Он писал здесь: "Так как мое физическое состояние лишает меня всякой надежды когда-нибудь снова жить в обществе, которое в самом деде больше для меня не существует, то я сбросил с себя и оковы той личной суетности, которою страдает всякий вынужденный толкаться промеж людей, в так называемом свете". Энгель, пользовавшийся недоступной впоследствии исследователям рукописью, сопровождает это место следующим примечанием:
"Чтобы представить образец тщательности, с которою Гейне искал соответственнейшего выражения, приводим текст рукописи, не выделяя вычеркнутого: "... я освободился от суетности... Вот уж много лет как не страдаю той суетностью... скинул с себя ту суетность... давно уже излечился от той суетности... то для меня не существуют больше соображения той суетности". Все эти варианты Гейне вычеркнул и заменил вышеприведенными. Это не нерешительность, не колебания начинающего — это обычные искания зрелого мастера. Он всегда искал и всегда учился. "Я достаточно силен, — пишет он романтическому поэту Б. Мюллеру, чтобы признать, — что размер моего "Интермеццо" не случайно сходен с вашим обычным размером, но что он по всем вероятиям, глубочайшей тайной своего звучания обязан вашим песням". А Фарнгагену писал Гейне, что многому в деле стиля научился у него: — и всегда такая благодарность сопровождается у него совершенно определенными примерами.
9. Этой определенностью запечатлены советы, которые давал Гейне другим поэтам. Именно внимание к приемам мастерства и конкретность в замечаниях делали его выдающимся учителем поэтического ремесла.
Оценивая присланные ему отрывки из трагедии его товарища Штейнмана, он прежде всего отвергает ее стихотворный размер: "четырехстопные трохеи невыносимы в драме; быть может, по предрассудку, но я считаю пригодным для нее исключительно пятистопный ямб, и без рифмы, которая допустима лишь в исключительно лирических эпизодах, как, например, в диалоге Ромео и Юлия, а никак не в спокойных сценах экспозиции, как в твоей "Анне Клеве". Он требует не только иного размера, но и безжалостного устранения вставленных ради метра бессодержательных слов "вроде словечка "милый", которое, как тебе известно, мне совсем не мило". Прослушав балладу Ведекинда "Донья Клара", он заметил: "Не следует говорить, что она идет к отцу и говорит то- то и то -то: пусть она прямо скажет, что нужно, а вы прибавите: "Так говорила донья Клара отцу". Не понравились ему также рифмы на двойное г, как streben-leben, gehen-stehen. "Таких рифм — сказал он — следует по возможности избегать, в них нет металла!"
По поводу грациозной шуточной поэмы Иммермана, присланной ему в рукописи, Гейне отозвался письмом, настолько обширным и содержательным, что оно напечатано, как статья, среди его сочинений. Это подробнейший технический разбор с указаниями на недостатки и предложениями улучшенных вариантов. Целый печатный диет занимает этот стилистический анализ, и не только отрицательный; это самая тщательная редакторская правка, — с той, однако, особенностью, что здесь исправляет поэта подлинный поэт, тем раскрывая и требования своей самокритической работы. Об объеме этой работы у Гейне — как, впрочем, и у Шиллера и Гете — можно судить по множеству вариантов, обычно представляемых в научных изданиях его произведений.
10. В разнообразии направления и назначения этих поправок, громадное большинство связано с неуловимыми для перевода смысловыми и звуковыми оттенками. Ограничимся и здесь немногими примерами, поддающимися объяснению на чужом языке. Начав с самых ранних переработок, проследим их до последних произведений поэта.
В стихотворении "Ночью в каюте ("Северное море") поэт сравнивает глаза своей возлюбленной со звездами:
И мигают они и манят
С голубого небесного свода.
В первом издании говорилось об этих глазах-звездах:
И звенят они и манят
В следующем издании было исправлено:
И кивают они и манят.
В пяти изданиях было так напечатано, и лишь в шестом Гейне прибавил изящную мелочь:
... прибиты
Золотыми гвоздичками.
Затем Гейне вернулся к первой редакции; быть может, варианты показались ему слишком смелыми, потому что для узко-рассудочного воображения тогдашнего немецкого читателя глаза также мало могут звенеть, как и кивать. И, наконец, лишь для последнего (5) издания он нашел подходящий глагол blinken (мигают, искрятся). В этом же стихотворении в ряде изданий говорил поэт-мечтатель о недоступности звезд, которые он стремится заполучить:
Дурачок ты обманутый!
Коротка твоя рука и далеко небо,
И звезды крепко к нему прибиты.
Эта прибавленная подробность может казаться прелестной; один критик считает, что она удачно поэтизирует прозаическую картину звезд, прибитых к небу. Возможно, однако, иное. Ведь, только что эти недоступные звезды небесные были для поэта образом очей возлюбленной. Если вспомнить, что тоской по этой возлюбленной проникнуто все "Северное море" и что именно богатство ее отца-банкира помешало браку между нею и поэтом, то мы увидим в "золотых гвоздичках" не одну "прелестную", "поэтизирующую" деталь, но и колючий намек, который поэт ввел под конец в свое мучительное видение.
Прежние русские переводчики известной "истории" "Два рыцаря" с насмешками над грязноватой мелкотой из польской политической эмиграции, не заметили, что среди многочисленных польских фамилий, перебираемых в этом юмористическом стихотворении, большинство сочинено, и сочинено в стиле гротеска, то есть без шансов быть принятыми за реальность. Такие "польские" фамилии, как Крапюлинский и Вашляпский, Эскрокевич и Шубианский гротескны, то есть не реальны по той простой причине, что происходят от бранных иностранных слов: crapule значит по французски сволочь, Waschlappen — по немецки тряпка, escroc по французски — мошенник, Schubiak по немецки — грязный бродяжка и т. д. Это следовало передать приблизительно: Сволочинский, Тряпкинский, Жуликевич, Паршинский и т. п.; между тем все эти Крапюлинские остались неприкосновенными наравне с подлинными фамилиями настоящих польских героев как Собесский и У минский; только Эзелинский передан как Ослинский. Между тем Гейне тщательно обдумывал эти фамилии, он неоднократно менял их, заменяя новыми не только в рукописи, но и в печатных редакциях, где появлялись и Шафскопский (Болванский) и Канальовский и даже Бешайсский (от немецкого глагола beschaissen обгадить и даже грубее...).
Как вдумывался Гейне в едва заметные подробности и как тщательно подбирал их, видно хотя бы из конца "Диспута". Как известно, решение спора между равином и капуцином было в конце концов предоставлено королем его жене.
Донна Бланка на него
Посмотрела в размышленьи
И прижав ко лбу ладони,
Так сказала в заключенье.
Сохранилось два рукописных варианта. В обоих поэт не уверен, думает ли в самом деле королева: в обоих сказано, что она "как-будто думает". В печатном тексте она при этом "прижала ко лбу переплетенные пальцы; в одной рукописной редакции "склонила на руку кудрявую головку", в другой "подперла руками подбородок". Поэт хотел, чтобы его читатель острее воспринял противоположность между наивно-глубокомысленной позой юной королевы и неожиданной остротой ее глупенького ответа. Для этого надо было, чтобы читатель видел его героиню, а для этого надо было подобрать возможно более подсказывающую позу — и Гейне долго колебался между разными черточками ее внешнего облика.
Множеством поправок испещрены все рукописи и последовательные редакции произведений Гейне, как лирических, так и эпических; меньше исправлений в трагедиях, но к этим юношеским созданиям рано охладел поэт. Зато позднейшие редакции поэта носят следы решительной и жесткой правки: вереницы очень ярких строф вычеркнуты из "Германии" (вся вступительная глава), ряд эпизодов — из "Атта-Троля". Любопытен, например, вычеркнутый вариант знаменитой подписи под бюстом медведя, сочиненной для его памятника в Валгалле королем баварским. Здесь Атта-Троль не именуется, как в окончательной редакции, "первобытно-лесным санкюлотом" но в забавном сопоставлении самая "лапидарность" стиля бездарного венценосного поэта сравнивается по беспомощной неуклюжести с плясуном медведем;
Бюст его воздвигнут: справа
Лист, а слева Фанни Эльслер
Лапидарный стиль его там
Как товарища прославит:
Атта-Троль, медведь честнейший,
Уроженец Пиринеев,
Воспринявший от французов
Хладный ум, а от испанцев
Пламень их, пред чернью мрачно
Танцевавший на базарах,
Иногда при сем вонявший,
Не талант, но ведь характер.
Таким образом, в новой юмористической характеристике все узко-личное и просто забавное по нелепости (бюст плясуна медведя между двух знаменитостей эстрады — Франца Листа и Фанни Эльслер, и т. п.) заменено отчетливой социальной характеристикой.
В первоначальной характеристике ничего не говорилось о семейных добродетелях Атта-Троля; однако, это показалось Гейне пробелом в королевском панегирике медведю. Он колебался, каким супругом представит Атта-Троля в надписи король. Поэтому он сперва написал: "супруг бодрый" (wacker — хорошо исполняющий свои обязанности), во французском переводе самого поэта читаем: "супруг достойный" и, наконец, в окончательной редакции — brunstig, то есть пылкий, похотливый. Таким образом, в конце концов на памятнике, поставленном плясуну-медведю в национальном пантеоне Германии, король-панегирист воздает хвалу... сладострастию своего дрессированного героя. Это один из множества примеров того, как Гейне настойчиво добивался удовлетворяющего его выражения.
Эта вереница поправок показывает разные виды мотивов Гейневских вариантов — от художественного благозвучия до сатирического обострения. Напомним еще один мотив, который кой-кому может показаться неожиданным именно у Гейне: не раз он смягчал выразительность слова, вырвавшегося у него в первичном тексте: "Изменения, внесенные мною в отдел "Опять на родине", разумеется, свидетельствуют о моем внутреннем смирении и стремлении улучшиться: из 88 песен этой части я выкинул те, которые могли бы показаться предосудительным кой-кому из слабых и заменил их добродетельнейшими... В "Путешествии по Гарцу" я также вычеркнул все слишком резкое".
Это предуведомление достаточно насмешливо, чтобы ослабить доверие к стараниям Гейне пощадить чью то чувствительность. Слишком хорошо известно нам, как мало считался он с мещанским представлением о предосудительном. Однако, ряд его поправок в самом деле носит следы внимания к нервам и к чувству пристойности в читателе. Сгоряча поэт пишет для себя — стесняться не приходятся; но потом он перечитывает, вспоминает о тех, кто будет читать — и его самого не удовлетворяет его первоначальная резкость.
Отделкой стихотворения, доведением его до возможного совершенства не кончалась работа поэта; после всего его заботила мысль о том, какое место займет это стихотворение в связи с другими, в сборнике. Эту заботу знали и немецкие классики, и они понимали, что отдельные лирические признания не разрозненные эпизоды душевной истории, и что потому стихотворения при всей своей самостоятельности, углубляются и обогащаются сочетанием с другими. И Гете не только смыкал свои стихи в циклы, объединенные разными принципами, формальными и смысловыми, но я пробовал строить из них целые повествовательные группы, настолько скрепленные единством развития, что В. Шерер смог назвать один такой лирический сборник романом. Шиллер старался о таком же единстве и, работая над новым изданием своих стихов, писал Гете, что хотел бы приготовить дюжину-другую стихотворений, чтобы "заткнуть в сборнике некоторые пустоты, при заполнении которых могло бы получиться интересное целое". Но по истине в этом вопросе великие поэты Германии могут считаться лишь предшественниками Гейне, который по праву называл себя мастером композиции и настаивал на том, что его "Романсеро", "конечно, потеряло бы бесконечно много, если бы автор не уделил столько времени и размышлений внешнему расположению стихов". И его "Книга песен", при углублении в порядок отдельных стихотворений, оказывается стройной композицией, действительно напоминающей цельный роман — автобиографический роман, о несчастной любви поэта.
Топ
анекдотов из моей коллекции за май
2014 года
























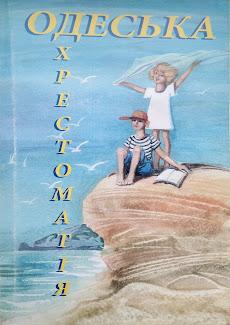
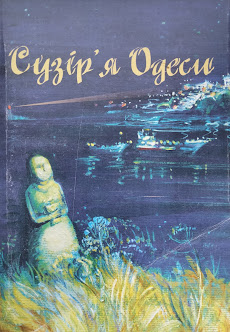











Комментариев нет:
Отправить комментарий