Парандовский
Ян. Загадки стиля
По книге
"Алхимия слова"
Неосязаемая, но властная материя вкуса
Я не упомянул о вкусе. Если сегодня о нем заговаривают, то как о чем-то старомодном, почти смешном. А когда-то вкус был великим стимулом, управлял всем: еще в начале XIX века в трагедии нельзя было упоминать о носовом платке. Вкус утратил власть с приходом романтизма, и именно с той поры в литературном языке наступила эра ничем не ограниченной свободы. Никакие предубеждения, никакие предрассудки не связывают писателя в выборе слов, в наше время даже Рабле не чувствовал бы смущения. Окончательно был позабыт завет Бюффона: "Nommez les choses par les termes generaux" — "Называйте вещи общими названиями", завет, как раз противоположный нашим принципам — искать слова единственного, настоящего, целиком и недвусмысленно определяющего предмет. Теперь уже непонятны споры, которые Дыгасиньский некогда вел с Конопницкой о праве вводить в литературный язык диалекты, а гнев Тарковского по поводу "На скалистом Подгалье" Тетмайера смешил нас еще на школьной скамье.
Неосязаемая, но властная материя вкуса
Я не упомянул о вкусе. Если сегодня о нем заговаривают, то как о чем-то старомодном, почти смешном. А когда-то вкус был великим стимулом, управлял всем: еще в начале XIX века в трагедии нельзя было упоминать о носовом платке. Вкус утратил власть с приходом романтизма, и именно с той поры в литературном языке наступила эра ничем не ограниченной свободы. Никакие предубеждения, никакие предрассудки не связывают писателя в выборе слов, в наше время даже Рабле не чувствовал бы смущения. Окончательно был позабыт завет Бюффона: "Nommez les choses par les termes generaux" — "Называйте вещи общими названиями", завет, как раз противоположный нашим принципам — искать слова единственного, настоящего, целиком и недвусмысленно определяющего предмет. Теперь уже непонятны споры, которые Дыгасиньский некогда вел с Конопницкой о праве вводить в литературный язык диалекты, а гнев Тарковского по поводу "На скалистом Подгалье" Тетмайера смешил нас еще на школьной скамье.
Сколько веселых минут доставляют вот уже нескольким литературным поколениям чудачества XVIII века, предписывавшие называть саблю "губительной сталью", а гуся облагораживать титулом "спаситель Капитолия". В те времена приходилось оправдывать Гомера за то, что он собаку без обиняков называл собакой. Еще в пору романтизма стреляли из "огненной трубки", а по дорогам гарцевали "кентавры в зеленом одеянии", то есть драгуны. Делиль упрятал шелкопряда под словами "возлюбленный листьев Тисбы", а его поэма "L'homme des champs" — "Сельский житель" вся состояла из подобных шарад. Но и "Городская зима" Мицкевича не что иное, как сплетение запутанных иносказаний.
Не будем считать, что мы от них свободны. Вот я раскрываю книгу стихов Каспровича и читаю: "Когда солнце кратчайшую отбрасывает тень" — это значит полдень. И дальше встречаю: "Поднялся он над взмахом стали". Придется остановиться и задуматься, прежде чем отгадаешь, что "взмах стали" — это всего-навсего коса смерти. Мне как-то попал в руки номер журнала со стихами современного поэта, заявлявшего: "Я взвешивал на ладони ее округлые плоды", а его французский коллега упоминает о "Un lendemain de chenille en tenue de bal" — "Завтрашнем дне гусеницы в бальном наряде". Сам Делиль с восторгом бы принял в свои поэтические сады бабочку, окрещенную столь вычурным образом. Наконец, не у поэта, а у прозаика, и притом в сдержанной Англии, я наткнулся совсем недавно на фразу: "Сталактит милосердия навис над сталагмитом раскаяния".
А именно в одиночестве и в тишине рождаются слова откровений, приносящие величайшие неожиданности, позволяющие заглянуть в корень вещей, выявляющие таинственные связи между самыми отдаленными друг от друга явлениями, открывающие величественное в будничном.
Нет великого писателя, который не стремился бы посредством своего слова добраться до сути вещей, до сокровенного смысла явлений, до поэтической natura rerum — природы вещей. Один из своих странствий по миру фантазии возвращается обогащенный символами и аллегориями, другой, разнеся в щепы все условности, конвенции, договоренности, на которых зиждется наше познание, воздвигает на этих руинах таинственную и неприступную столицу своей фантазии.
Таков был Роберт Браунинг. Когда появился его "Сорделло", Теннисон, придя в себя от ошеломления, наступившего после прочтения поэмы, заявил, что понял в ней всего лишь две строчки, причем, по его мнению, обе лживые — первая: "Я расскажу вам историю Сорделло" и последняя: "Я рассказал вам историю Сорделло". Теннисон, автор кристально-прозрачного "Еноха Ардена", не был предназначен для чтения подобного рода поэзии, но вот Карлейль, привыкший общаться с темным и непонятным, хотя бы в собственной прозе, и тот пишет Браунингу, что его жене (Карлейль любил в щекотливых положениях прикрываться своей женой), хотелось бы узнать, является "Сорделло" поэмой о человеке, о городе или о луне... Еще при жизни поэта было создано Browning Society — содружество комментаторов его творчества, и Браунинг отсылал туда лиц, обращавшихся к нему за разъяснениями, полушутя-полусерьезно он и сам начинал верить, что комментаторы его творчества понимают его лучше, чем он сам.
Несколько десятилетий поклонники поэта совершали, одни или с проводником, паломничества в браунинговскую обитель, как другие отправлялись в пасмурный край Уильяма Блейка. Посещают пилигримы и Малларме, нынче более, чем когда-либо раньше. В каждой литературе поэты такого типа имеют и горячих почитателей, и ярых противников. Те, кто не умеет их понять, а вернее, не хочет взять на себя труд добиться понимания, отвергают "непонятную поэзию", выносят ее за скобки литературной жизни. Действительно, у этих поэтов различие между языком художественным и обычным доведено до последнего предела. И ничто не изменится, если поэт браунинговского склада вместо слов изысканных, исключительных начнет употреблять слова самые обычные, взятые из разговорной речи, из газет, услышанные на улице, но того, как он их расположит и использует, вполне достаточно, чтобы вывести их из рамок повседневного употребления.
Малларме ломал структуру фразы, выворачивал ее наизнанку, доводил до бессмыслицы только для того, чтобы какому-нибудь одному слову придать особую силу и выразительность. Очень показательна история одной его речи. Малларме произнес ее на похоронах Верлена, думая лишь о звучании произносимого слова. Когда же к нему подошел репортер и попросил текст речи для напечатания, поэт пригласил его в кафе и там принялся торопливо затемнять слишком ясную и прозрачную структуру фраз. Когда я воспроизвожу в уме эту картину — поэт, наклонившийся над смятым листком, следящий хмурым взглядом за легким потоком слов, — до меня доносится голос из огромной дали, голос древнегреческого ритора, цитируемого Квинтилианом, обращаясь к своим ученикам, этот ритор призывал: "Skotison!" — "Затемняй!"
Выработка стиля
Литературное произведение прежде всего должно быть "прекрасным языковым явлением". Нет такого писателя, который не смог бы повторить за Китсом: "На красивую фразу я всегда смотрю как возлюбленный". Кто недооценивает качество стиля, никогда не удержится в литературе. Только хороший стиль обеспечивает в ней авторам место. Кто бы нынче интересовался Боссюэ или Скаргой, если бы их проза не составила эпохи в литературах французской и польской? Они бы разделили участь сотен проповедников, чьи труды имеются лишь в крупных библиотеках и хранятся там из милости или для полноты библиографии.
Если бы Тацит писал, как Плиний Старший, его произведения имели бы ценность лишь исторического источника, явились бы литературной версией унылого существования покойников без погребения в античном царстве теней. Историк плодовитостью платит за художественность им написанного.
Если бы Тацит менее заботился о совершенстве своего стиля, если бы не задумывался над тем, как заключить в одной фразе целую драму, а одним прилагательным бросить сноп света в глубину человеческой души, он на протяжении своей жизни не только сумел бы легко закончить "Историю", но и написать еще несколько произведений, им задуманных, на которые у него не хватило времени, целиком потраченного на величественную, полную побед и триумфов борьбу за новую латинскую прозу, для него столь же важную, как и написание истории своего столетия. Тацит жил не меньше и, как позволительно предположить, отличался не меньшим трудолюбием, чем Теодор Моммзен, но библиография Тацита состоит только из пяти произведений, а у немецкого историка их тысяча.
Ценой таких трудов и стараний писатель вырабатывает свой индивидуальный стиль — совокупность характерных особенностей словаря, конструкции предложений, их соотношения между собой, употребление метафор, сравнений, различные речевые особенности или же сознательное избегание всего этого. Страницу хорошего писателя сразу распознаешь среди многих других, иногда даже по одной фразе. В это хорошо посвящены филологи, вылавливающие крохи погибших произведений древних авторов. И сколько раз случалось, что небольшая цитата из Жеромского, приведенная в критической или публицистической статье, сверкает на ее фоне, как заплата из пурпура на сером грубом холсте!
Вопрос о том, как зарождается и созревает индивидуальный стиль писателя, принадлежит к труднейшим в сфере психологии творчества. Несомненно, писатель уже носит в себе определенное предрасположение, обусловливающее в дальнейшем выработку собственного стиля. Потому что у каждого человека есть свои особенности в способе выражения, построения фраз, их расстановки. Это обстоятельство используют романисты и драматурги, они индивидуализируют язык персонажей.
В обыкновенной человеческой речи проявляют себя все людские темпераменты, недостатки и добродетели, чудачества. Все это есть и у человека, собирающегося стать писателем. Ему, как и всем остальным людям, одни слова нравятся, другие не нравятся, то же и в отношении грамматических форм, правил синтаксиса. С этими предрасположениями писатель отправляется в путь. По дороге он соприкасается с языком своей среды, с языком авторов, прочитанных в школе или самостоятельно, с тем или иным иностранным языком, материал извне воздействует на писателя со всех сторон, и он сначала инстинктивно, а потом сознательно отбирает нужное.
Стиль Пруста — литературный образец беседы или, вернее, монолога, произносимого человеком высокой интеллектуальной культуры перед восхищенной аудиторией. Так разговаривал Пруст в салонах и на обедах, устраиваемых им в ресторане Риц, сам он при этом ничего не ел (обедал на час раньше), чтобы ложки, ножи и вилки не стесняли жестикуляции. Говорил длинными периодами, усложненными вводными предложениями, делал стремительные переходы, позволял себе отступления, прибегал к недомолвкам, дополняемым улыбкой или жестом, иногда резко обрывал фразу в таком месте, в котором, кроме как в разговоре, недопустимо это делать, иногда же говорил нарочито правильно и даже монотонно, чтобы ярче на этом блеклом фоне вспыхнуло неожиданное замечание, сверкнул парадокс или афоризм. Тот, кто его помнит, слышит его голос, видит его лицо в тексте книги.
Но свой стиль, такой необычный, со своеобразной мелодией, отличающей каждого человека, Пруст обрел, соприкоснувшись с другой сильной писательской индивидуальностью. Читая и переводя Рескина, он испытал откровение: изумился, что можно так писать. То было спасительное откровение для человека, воспитанного на преклонении перед Анатолем Франсом. Рескин снял с него путы и дал возможность стать самим собой. У каждого писателя бывает свой Рескин.
Совсем не напрасно исследователи роются в личных библиотеках писателей, стараются установить, кто был их любимым автором, узнать их "livres de chevet" — "настольные книги" из их личных признаний, переписки, из воспоминаний окружающих извлекают этих тайных советчиков, наконец, и по самому произведению иногда можно довольно точно определить, под чьим влиянием оно возникло.
Из тысячи различных книг писатель обычно выбирает для чтения те, с авторами которых у него есть нечто вроде сродства душ, у таких писателей оп находит поддержку, поощрение своих склонностей или указания, как эти склонности развивать. Но писателю следовало бы взять за правило обращаться к писателям, противоположным ему по духу, и многие это правило соблюдают из опасения погрязнуть в собственной рутине. Часто бывает и так, что старый маститый писатель уже ничего больше не читает, кроме одного-двух классиков, которые ему сродни.
В небольшом изящном произведении античной литературы под названием "О возвышенном" неизвестный автор пишет: "Представим себе: если бы Гомер или Демосфен находились здесь и слышали употребленное мною выражение, как бы они его оценили?" Так многие художники, стремясь к совершенству, чувствуют над собой незримое око давних мастеров.
Здесь дело не во влияниях и не в подражании, это как бы пробные камни. На них, на высоких образцах прошлого, писатель проверяет собственную прозу или стихи, из достаточно ли благородного металла они выплавлены и достаточно ли высокой пробы. Достигнуть того, чего в свое время и в границах своих возможностей достигли великие предшественники, расширить власть над языком за пределы, где они остановились, добиться новых оттенков, углубить смысл и пойти еще дальше, освободиться от балласта устарелых флексий и синтаксиса — вот задачи, какие ставит перед собой художник слова по отношению к своим предшественникам.
Пусть в заключение этой главы прозвучит голос гуманиста Пьетро Бембо — одного из тех людей, кто на писательское искусство взирал в мистическом восхищении. В одном из писем он признается своему другу, знаменитому Пико делла Мирандола: "Я думаю, что у бога, творца всего сущего, есть не только божественная форма справедливости, умеренности и других добродетелей, но также и божественная форма прекрасной литературы, совершенная форма, ее было дано лицезреть — насколько это возможно сделать мыслью — Ксенофонту, Демосфену, в особенности Платону, но прежде всего Цицерону. К этой форме приспосабливали они свои мысли и стиль. Считаю, что и мы должны так поступать, стараться достичь возможно ближе этого идеала красоты".












.jpg)


%20and%20Rubens%20pupil%20--%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD,%201620,%20178,5%20%D1%81%D0%BC%20x%20280,5%20%D1%81%D0%BC,%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82,%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE.jpeg)








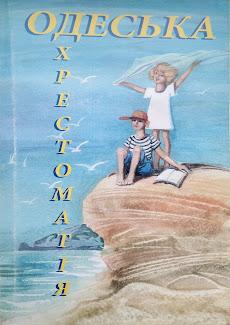
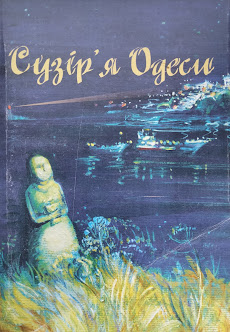











Комментариев нет:
Отправить комментарий